Как выстраиваются подобные нормы? Через возможности договариваться «по-людски», причем не обязательно коррупционно, хотя и без взяточничества дело не обходится. Лозунг такой неформальной системы: «Не давить буквой Закона человеческие жизни». В неформальных договоренностях Закон, конечно, используется, но лишь как исходная референтная точка в переговорах. Так, инспектор ГИБДД, останавливая машину нарушителя правил дорожного движения, начинает с формальной фиксации нарушения, оглашения статьи и последствий (размер штрафа, возможное изъятие водительского удостоверения). Он использует закон как рычаг в переговорах и не собирается исполнять его буквально. В переговорах определяется цена решения вопроса, или неформального штрафа. И нельзя сказать, что нарушитель не наказывается вовсе, просто наказание осуществляется в другой, более мягкой форме и в пониженном размере.
Важно, что советская система была принципиально выстроена так, что все вынуждены были нарушать. В таком обществе любого можно подвергнуть наказанию и даже посадить за решетку. Но власть закрывает на многое глаза, оставляет большинству лазейки для выхода, закидывая ту самую жесткую сеть с крупными ячейками. И, кстати, во многом эта система сохранилась и в нынешнее рыночное время, бесценный советский опыт не пропал даром.
При этом советская система усиленно стремилась к своему равновесию, пусть не оптимальному и даже дурному, но равновесию. Достигалось это в том числе через отсечение крайних позиций – тех, кто угрожает ее дестабилизировать: с одной стороны, идейных советских активистов и принципиальных законников (тупых поборников правил), а с другой стороны, диссидентов, своего рода политических «беспредельщиков» (которые открыто их не соблюдают). Система пытается вычистить или свести к минимуму обе крайности – всех тех, кто отказывается идти на компромиссы с «нормальными людьми», со «своими».
Так и в нашем фильме: формально главный герой – следователь Ермаков представляет высшую по отношению к местному сообществу власть (в данном случае прокуратуру), но видно, что он не интегрирован не только в местное сообщество, но и в саму вертикаль власти, не сделал карьеру («начальство не оценило моих дарований»). Он выглядит чужеродным элементом. И причина этой всеобщей отчужденности удивительно проста: следователь пытается (всего-то!) исполнить свой профессиональный и служебный долг, т. е. поступить буквально по формальным правилам, по букве закона, да еще пытается при этом пойти на принцип. В результате он оказывается изгоем. И мы понимаем, что при его принципиальности впереди у него еще много всяких неприятностей. Представитель властной системы, который пытается верой и правдой служить этой системе, по сути, оказывается ей не нужен, поскольку эта система при всем своем формализме не предполагает буквального следования правилам. И в нашем фильме Следователя отторгают не как представителя Власти, а именно за неготовность договариваться по-людски.
Известно, что советское общество было очень идеологизировано. Но отношение к идеологии было амбивалентным и очень сходным с отношением к Закону. Она и не принимается полностью, и не отрицается вовсе. Дело не в том, что одни оболванены и одурманены, а другие лишь притворяются послушными в публичном пространстве, не говорят правду открыто, а делятся ею на кухнях, ходят с фигами в кармане, подмигивая друг другу и выплескивая свои фрустрации в стебе и анекдотах. В действительности все оказывается сложнее. Дело в том, что многие действительно в идеалы верили, только делали это как-то по-своему и по-разному, т. е. не буквально по партийным шаблонам.
Идеологический дискурс в основе своей построен на недоказуемых (неопровержимых и нефальсифицируемых) утверждениях. Эти утверждения формулируются как непреложные факты, но находятся с фактами в ортогональной плоскости, и поэтому опровергнуть их логически тоже нельзя. Попробуйте содержательно ответить на вопрос, действительно ли Партия была рулевым общества. Или действительно ли «учение Маркса всесильно, потому что оно верно»? Содержательные ответы в данном случае просто не предполагаются.
В идеологическом дискурсе власть занималась целенаправленным воспроизводством стандартных застывших форм и формул. Люди же вроде бы не отторгали эти формулы, но и не воспринимали их буквально и содержательно. Они продолжали воспроизводить эти идеологические формулы на ритуальном уровне, не особо вдаваясь в их смысл, не пытаясь их понять или исправить. Или просто эти призывы не замечали, привыкая к ним как к неотъемлемым и ничего не значащим элементам окружающего пространства [91] Еще у Джорджа Оруэлла прозвучала мысль о том, что людям легко поверить в официальный миф, если его смысл для них неважен ( Оруэлл Дж . 1984. М.: АСТ, 2019. С. 154).
. По словам А. Юрчака: «Абсолютное повторение формы было важнее, чем исправление явно абсурдного смысла» [92] Юрчак А . Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. С. 124.
. Такое воспроизводство идеологической функции было сопряжено с ее одновременным подрывом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


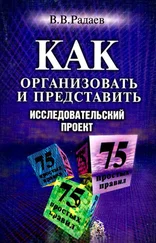

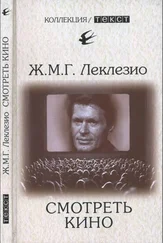


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




