Идеологическое и административное давление, конечно, не было причиной единения, но оно было приемлемой формой, побуждающей к единению. Комбюрократия хотела объединить всех в коллективы для лучшего контроля и пропаганды. И добилась результата, пусть не совсем того, которого хотела. Такое объединение всех устраивало, только объединялись на совершенно других основаниях, неформально и творчески. Система порождала так называемые непредвиденные последствия (unentended consequences), и именно они оказывались ее главным итогом. Соблюдение формальных ритуалов со всеми этими собраниями и никому не нужными отчетами позволяло жить нормальной, весьма интенсивной неформальной жизнью.
Глубокая парадоксальность советского строя
Из всего этого неизбежно вытекает вывод, что простота и сугубый формализм советского строя – не более чем кажущиеся. Как показал Юрчак в упомянутой ранее книге, его нельзя изображать в сугубо бинарных оппозициях: черное – белое, свобода – угнетение, истинное – ложное. Чтобы понять советское общество, нужно осознать его глубокую противоречивость и даже парадоксальность.
Не случайно в советское время особо ценились эзопов язык и иносказания, двусмысленности и намеки, которые попросту не улавливаются, если ты не погружен в контекст. Отсюда и огромная роль анекдотов как стержня повседневной советской коммуникации, уже совершенно непонятная для сегодняшней молодежи. Интересно, что именно через анекдоты, имевшие явную или скрытую политическую окраску и построенные на явном абсурде, легче всего понять саму суть советского строя. Для иллюстрации приведем пример известнейшего анекдота, раскрывающего характер советского устройства через серию последовательных парадоксов:
1. Безработицы нет, но никто не работает.
2. Никто не работает, но план выполняется.
3. План выполняется, но купить нечего.
4. Купить нечего, но у всех все есть.
5. У всех все есть, но все недовольны.
6. Все недовольны, но голосуют «за».
Перед нами не просто хохма. В этой батарее парадоксов показывается, что двусмысленность превратилась в важный организующий принцип – в этом обществе все строится на основе множества взаимосвязанных и тонко обустроенных институциональных компромиссов. Анекдоты – это правдиво кривое зеркало советской жизни – образовали богатейший пласт отечественной культуры, который ныне уходит в небытие.
Неудивительно также, что именно диалектика как способ мышления через разворачивание противоречий была в это время главным философским методом. А «диалогичный» (по М.М. Бахтину) Ф.М. Достоевский [93] Бахтин М.М . Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972.
, самый парадоксальный писатель, как никто другой, показавший глубокую противоречивость человеческой натуры, по сути, был главным «советским» писателем, хотя отношение к нему официальных инстанций было сдержанным – предпочитали продвигать «монологичного» моралиста Л.Н. Толстого.
Легко ли жить в системе, построенной на парадоксах? Конечно, нелегко. Впрочем, большинство свыкались и предпочитали ни о чем не думать. Остальные спасались Иронией – это было, пожалуй, главным и наиболее ценным качеством советского интеллигента. Ирония выражает способность не отвергать и не принимать существующий порядок как он есть, но определенным образом дистанцироваться и, принимая правила Игры, производить смещение смысла. И относиться к этой Игре, да и к самому себе с изрядной долей юмора или даже с хорошей долей стеба. Поэтому, кстати, самый сильный киножанр в советское время – комедии с элементами сатиры (режиссеры Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Леонид Гайдай). Отсюда бешеная популярность Аркадия Райкина, дуэта Виктора Ильченко и Романа Карцева, Геннадия Хазанова, а на излете советской эпохи более желчного Михаила Задорнова. Добавим Евгения Петросяна и других подобных персонажей для более широких, без особых претензий, масс. Сейчас все это уже не кажется смешным. Былые блестящие комедии выродилось в «Елки» и «Жмурки». Сатира скончалась. Из великих на гребне остался Михаил Жванецкий, и скорее не как сатирик, а как в высшей степени (остро)умный человек. Но и он ушел из жизни в конце 2020 года.
Сказанное не означает, что у советских людей не было ничего святого и все вокруг подвергалось осмеянию. Парадоксальным образом глубоко укорененный скептицизм сочетался с не менее глубоко запрятанным ощущением причастности к чему-то Великому и подпитывался этой причастностью. Это была не Вера в коммунизм по партийным документам, но вера в светлое (несмотря ни на что) будущее, в особенность избранного пути. Отсюда в том числе популярность научной фантастики, рисовавшей завораживающие технократические образы будущего, не противоречащие подкрашенным коммунистическим идеалам. Прекрасный образец – романы Ивана Ефремова. Сейчас такого рода фантастика замещена фэнтези – выдуманными (игровыми) мирами. И это совсем другой тип историй.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


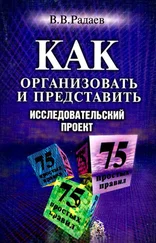

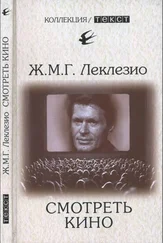


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




