Кстати, столь любимая моим поколением отечественная рок-музыка конца 1970-х – начала 1980-х годов была не столько музыкой протеста, сколько концентрированным выражением все той же стратегии вненаходимости. И в целом, как оказалось позднее, она была чисто советским явлением. Как подмечал Илья Кормильцев (культовая фигура для русского рока): «Пусть кто-нибудь найдет хоть одну антисоветскую строку в доперестроечном русском роке». Поэтому, видимо, эта музыка и не пережила постсоветское время.
Советский формализм создавал внешнюю рамку, в которой разворачивалась реальная жизнь живых людей (именно внутри системы, а не снаружи). Голосуя «за» на очередном собрании, часто не слушая и не понимая, за что именно голосуешь, ты получал право на какие-то осмысленные действия внутри системы, в том числе связанные со смещением смысла. Именно к этому приему прибегает Журналист Солоницына в обсуждаемом фильме.
Советская система не только позволяла, но даже способствовала возникновению каких-то творческих действий и производству разных смыслов, не заданных сверху. Несмотря на многочисленные ограничения, отрицать которые совершенно невозможно, люди чувствовали себя свободными внутри этих ограничений. Не случайно в марксистской философии свобода трактовалась именно как осознанная необходимость, т. е. как свободное осознание ограничений.
Как насаждали искусственные формальные коллективы, и что из этого вышло
Возникновение пространства свободы в искусственно выстроенных рамках хорошо иллюстрируется через политику насаждения формальных коллективов. Вся жизнь советского человека с самого детства проходила в таких коллективах, которые образовывались по единому шаблону для всеобщего контроля и воспитания. В первом классе школы тебя принимали в октябрята, в третьем классе – в пионеры, в седьмом или восьмом (как повезет) – в Ленинский Комсомол. И на всем протяжении жизни тебя сопровождали одни и те же планы, показатели, собрания, мероприятия, отчеты, соцсоревнования, переходящие вымпелы, грамоты. Из школы это переходило в университет, потом воспроизводилось на работе. Нужно было все время проводить демонстративные акции по спущенным сверху планам – комсомольские и партийные собрания, спортивные и культурные мероприятия, ходить на субботники, собирая листья, или на овощные базы для перебора и погрузки полусгнившей картошки или капусты.
Как ни странно, все эти формальные демонстративные акции достигали реальных результатов, хотя эти результаты не совсем соответствовали изначальным планам. Они производили побочный продукт, помогая формировать реальные сообщества из «своих», о которых мы говорили ранее, обсуждая выбранный нами фильм. Формалистика «схлопывалась», т. е. соблюдалась на чисто ритуальном уровне, освобождая пространство для нормального человеческого общения и относительно свободного творчества. Требуемые собрания и мероприятия уже проводили не только для галочки, а трансформировали во что-то интересное для себя. А отчитывались сугубо формально – если чему и научили советских людей, так это формальной отчетности.
Приведу пример из личной жизни. В университете наша студенческая группа постоянно выигрывала социалистическое соревнование по показателю «Проведение вечеров интернациональной дружбы». Как это происходило на деле? В группе было девять иностранцев из разных стран. Мы собирались все вместе на чьей-нибудь квартире, а далее, например, венгерки могли вдруг прийти в национальных костюмах, или бенгалец решал научить нас петь «Харе Кришна», но в основном мы просто много общались и так же много пили (что в отчетах, конечно, не указывалось). В результате достигался явный перформативный эффект: возникала интернациональная дружба, только не та, партийно-комсомольская, по заказу, а реальная – на многие годы вперед.
Очень популярными местами сборищ были дискотеки, где отчаянно танцевали под музыку, слабо совместимую с коммунистической идеологией. Но как-то все это совмещалось. Например, дискотеки затевались как тематические встречи в рамках всеобщей борьбы за мир во всем мире, а рок-музыка подавалась как музыка протеста против буржуазных устоев.
К сегодняшнему дню времена изменились. Как-то разговаривая с нынешними студентами, я был поражен, узнав, что сейчас в студенческих группах они не всегда знают имена друг друга. И со многими не общаются. На моем курсе в университете было более 400 человек. Я знал лично почти всех и активно общался с половиной. И, кстати, курс собирается регулярно спустя десятилетия после окончания университета. Про свою студенческую группу из 30 человек и говорить нечего – это было постоянное и интенсивное человеческое общение. Вся группа целиком как минимум раз в месяц собиралась на квартирах (тесных советских), приглашались все, и приходило большинство. Попробуйте представить такое сегодня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


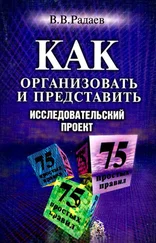

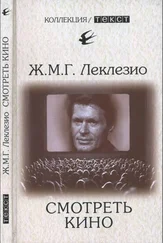


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




