В этом мире фактически отсутствует рефлексивность – способность к критическому самоанализу. Не просто к размышлению, но к постоянному переосмыслению надуманного и содеянного, к ревизии оснований собственного мышления и деятельности.
Для европейского протестантизма была характерна некая интеллектуализация отношений с Богом, сопряженная с личной ответственностью за свою жизнь и способностью самостоятельно оценивать свою вину. И заметим, что западные социальные науки тоже развиваются через непрерывную ревизию, т. е. через пересмотр собственных оснований – аксиоматической базы, которая первоначально принимается без доказательств. Поэтому кризис для такой науки – совершенно нормальное состояние и, более того, непременный признак ее развития. Особенно это характерно для социологии, которая, постоянно накапливая факты, в меньшей степени накапливает теоретическое знание, периодически возвращаясь к своим истокам и совершая бесконечные круговые движения. И, кстати, именно в силу неизбывной склонности к рефлексии никто не сделал так много для постепенного разрушения социологии, как сами социологи.
В мире же, о котором мы рассуждаем, по сути, нет места для рефлексивного размышления. И у этого есть глубокие корни, в немалой степени тянущиеся от русского православия с характерной для него верой без самоанализа. Людей столетиями приучали веровать, но запрещали размышлять по этому поводу. Сомнения считались самым пагубным делом.
Поэтому и чужая мысль на российской почве либо принимается на веру, т. е. заимствуется некритически (часто с неумеренными восторгами), без логического осмысления, либо агрессивно отвергается с порога, точно так же без должного осмысления. Нетерпимость к инакомыслию оказывается неизбежным проявлением склонности к догматизму.
Именно поэтому, вероятно, в России научные положения так легко превращаются в догмы, а социальная наука не может, как ни старается, отделить себя от политики, веры и субъективных пристрастий. Даже при выступлениях хороших ученых порою перестаешь понимать, в какой момент научный доклад перерастает в политическую декларацию.
Это одна из причин (помимо следствий жесткой советской цензуры), почему в советской России так хорошо развивались математика и естественные науки и одновременно так туго шло дело с социальными и гуманитарными науками. Да, конечно, естественные науки более универсальны, вдобавок в советское время их усиленно развивали для нужд милитаристского государства, тогда как социальные науки столь же усиленно идеологизировались, а неидеологизированная часть попросту выжигалась. Все это так. Но, возможно, это не единственная причина…
По всей видимости, на нашей почве более успешно развиваются науки, построенные на формальной (математической) логике, и значительно хуже обстоят дела с науками, основой развития которых является та самая рефлексивность, обращенность на самое себя, способность постоянно подвергать критике собственные основания, аксиоматику.
В результате рефлексивная методология оказывается неразвитой. И мы не можем эффективно встроиться в мировую науку не только в силу языковых барьеров, но и в силу различий в самих способах мышления. Те из нас, кто преподает, часто замечают, что у студентов напрочь отсутствует критическое начало в текстах, и мы не можем их этому должным образом научить. Но главная причина коренится в том, что у старших коллег такое начало тоже крайне редко встречается. Поэтому мы сплошь и рядом заимствуем чужие научные плоды, причем делаем это довольно поверхностно, на уровне отдельных исследовательских приемов (методик), или занимаемся миметизмом (имитацией) – изготовлением экспортных вариантов исследований под чужие шаблоны.
В этом отказе от рефлексивности, по мнению режиссера фильма, содержится и позитивный заряд (а «Белые ночи» явно такой позитивный заряд несут, несмотря на всю убогость рисуемых картин). В чем же здесь видится позитив? Следуя за Кончаловским, который активно высказывался по данному поводу еще перед показом фильма, с определенным упрощением идею можно изложить так. Есть плохая и хорошая новости. Плохая новость заключается в том, что мы стали свидетелями мирового кризиса западной культуры, во многом переродившейся в цивилизацию (если вспоминать классическую схему Освальда Шпенглера в «Закате Европы» [76] Шпенглер О . Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М.: Мысль, 1993.
). Более того, для западной культуры кризис стал ее естественным состоянием, и ее неумолимо влечет к пропасти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


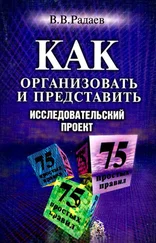

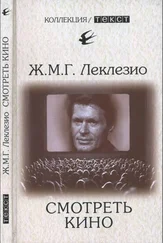


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




