Снизу власть делится на свою и чужую. Своя власть деформализуется, примеряясь к обычаям местной жизни (будь то наезжающий изредка «свой» генерал или местный участковый). Они никого особо не трогают, сами нарушают закон потихоньку. Их не то чтобы любят, но уважают.
Чужая же власть – не обязательно заезжая, но та, что следует формальному закону и правилу. К ней относится местная женщина из Рыбнадзора, которая «не замечает» рыбалку генерала, но оформляет своих, изымая рыбачий невод. Причем любопытно, как инспекторша оправдывает свои действия. Она не прикрывается формальной отсылкой «закон есть закон», а пытается прибегнуть к «человеческому» объяснению – к тому, что боится потерять работу. Дескать, войдите в положение одинокой женщины с ребенком. Никто не протестует, но заметно, что даже участковый милиционер удивляется ее поведению. Она представляет чужую власть – таких не любят и не уважают.
Сельская жизнь поистине тяжела, причем именно в физическом смысле, ибо она наполнена простым физическим трудом, или, словами В.О. Ключевского, «молчаливой черной работой». Здесь труд осуществляется как настоящая повинность (чистое средство выживания), а не как призвание или самоцель. Не служит этот труд и объединению людей. Вот как об этом говорит тот же Ключевский: «Великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях» [73] Ключевский В.О . Полный курс лекций по истории России. http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/17.htm
.
Нужно заметить, что крестьянский труд все же отличается от труда фабричного рабочего своим сезонным характером и разнообразием. В сельском труде больше переключений между занятиями, в отличие от труда рабочего, который вынужден день за днем и год за годом выполнять один и тот же набор стандартных операций. И принудительный ритм труда на селе задается естественным природным циклом, а не бездушной технологией. Так что в сельских занятиях есть и свои плюсы, но содержательность труда от этого не повышается, и он остается преимущественно физическим и черновым.
Для такого рутинного, однообразного и не слишком содержательного труда нужно изрядное терпение, которое становится в этой жизни одним из системообразующих качеств. В свою очередь, терпение соседствует с отчетливым пониманием безысходности ситуации. Терпишь-терпишь в надежде на лучшую жизнь, а она все не приходит и, видимо, уже никогда не придет. Выразим это словами одного из героев фильма: «Вся жизнь прошла в каком-то терпении. Думаешь, за горизонтом жизнь сиреневая, алая, хорошая. Подходишь к горизонту, а там жизнь такая же серая». Правда, временами на наших героев накатывает смутное беспокойство, этакая древнерусская тоска. Она наилучшим образом выражена фразой из фильма: «Бывало лежишь, такая тоска найдет… до смертоубийства можно дойти…». Но мысли о самоубийстве если и приходят, то вскоре отпускают. И сакраментальный вопрос «А к чему это все?» не приводит к продолжительным размышлениям. Время такое – и весь ответ. И вслед сразу же возникают куда более приземленные мысли о том, что надо бы начинать копать картошку.
Пьянство в этой местности не болезнь, а нормальная форма существования, исконное средство заглушить на время ту самую древнерусскую тоску, отрешиться от забот убогого и бренного мира. А заодно преодолеть отчуждение от других людей. Снова приведем слова одного из героев фильма: «Постоянно в душе боль. Заглушу, когда напьюсь, а так постоянно».
Для сельчан пьянство – не просто способ облегчить жизнь, но также средство достижения истинной коммуникации между собой. Люди в этих особых случаях уже не обмениваются суждениями, а ведут задушевный разговор, т. е. достигают состояния подлинного сопереживания.
Опьянение в более широком смысле являет своего рода дионисийское начало в понимании Ф. Ницше. Сколько раз мы видели, как внешне непоколебимое спокойствие в пьяной компании внезапно взрывается и замещается дикими безудержными порывами, каким-то необъяснимым восторгом с моментальными переходами к столь же необъяснимой агрессии, немыслимыми оргиями, стремлением выйти за всякие разумные пределы. «Душа разворачивается», сметая все на своем пути. При этом происходит не обретение индивидуальности, а, напротив, ее полное растворение в толпе, слияние с окружающей природой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


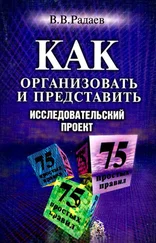

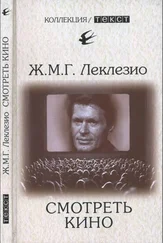


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




