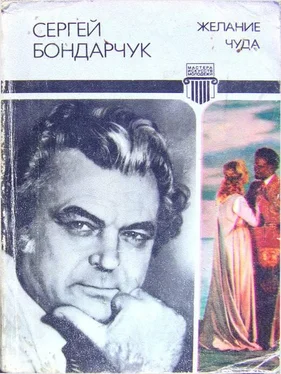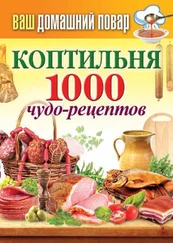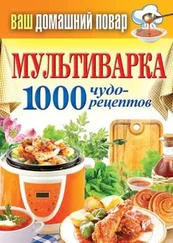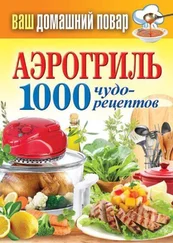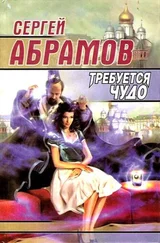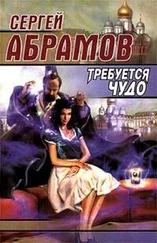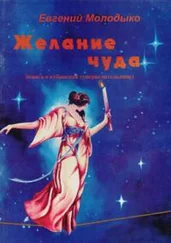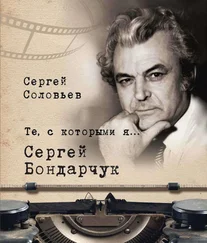Интересно об ударении… «Ударение на важном слове, на фразе — необходимо, но вопрос в том, как и чем сделать это ударение. Вы по большей части делаете его голосом, напрягая при этом свою волю. Но ударение можно сделать и чувством и это — самый ценный вид ударения. У вас же в игре оно встречается слишком редко».
В нашей профессии самое сложное — освоить темпоритм. На его смене можно творить чудеса. Михаил Чехов владел им как никто, особенно в роли Хлестакова. Мы делаем этюды, отрывки из произведений — везде заданный темпоритм, прямая, самая скучная линия поведения.
Приведу ещё один большой отрывок. Вы только вдумайтесь, о чём говорил Михаил Чехов… «Я встретил здесь недавно приехавшего из Москвы фильмового работника. Он сказал мне: русский актёр хочет научиться американскому фильмовому темпу. Я ответил: американскому «темпу» русский актёр учиться не должен. В американском фильме пне темп, а спешка. Ею по большей части режиссёр и актёры стремятся прикрыть пустоту и бессодержательность происходящего на экране. (Я исключаю, конечно, немногие фильмы большого значения.) Актёры здесь боятся замолчать даже на полсекунды: может обнаружиться полное ничто — надо говорить, говорить, говорить и как можно быстрее. Это не темн. Многому можно научиться от американского фильма, но только не темпу. Настоящий темп зависит от двух условий: первое — устранение ненужных длиннот (в речи, игре и постановке) и второе — живое, подвижное чувство актёра. Темп, как вы знаете, бывает двоякого рода: внешний и внутренний. Первый выражается в быстрой (или медленной) смене внешних средств выразительности, которыми пользуется и режиссёр, и актёр (движения, речь, мизансцены, монтаж, всякого рода сценические эффекты и прочее). Второй, внутренний, темп выражается в быстрой (или медленной) смене душевных состояний героя, изображаемого на сцене».
А вот то, о чём мы с вами всё время толкуем…
«…Вы «недосматриваете» внутреннюю жизнь изображаемого вами героя. Те чувства, которые вы показываете на экране, слишком общи, абстрактны и не индивидуальны… Дайте созреть вашему чувству под влиянием наблюдаемого вами образа. Смотрите на него (в него!) каждый день по нескольку раз в день. Тогда вы не будете изображать вообще испуг, вообще любовь, вообще злобу».
Как глубоко и просто говорит Михаил Чехов о влиянии атмосферы на индивидуальные чувства актёра. «Представить себе атмосферу так же легко, как представить, например, аромат или свет, наполняющий пространство. Даже непродолжительная тренировка научит вас владеть атмосферой и пользоваться ею, как средством к пробуждению ваших чувств… Атмосфера имеет силу объединять актёра со зрителем».
Это ли не важно?
На одном из занятий студенты показывают этюд по рассказу Л. Н. Толстого «Чем люди живы»: Семён учит Михайлу шить сапоги.
— Мне понравилось, как вы это делаете, — говорю исполнителям. — На чём, например, построен русский перепляс? На повторении движений. Один показывает, другой повторяет. При повторе может быть больше блеска. Вы все хорошо наметили. Но время должно быть сценическим, а не реальным — как в пантомиме. Всю учёбу шитья надо привести к такому рисунку. Семён задаёт одно, второе, третье, Михаила повторяет, и Семён должен включиться в этот радостный процесс, поверить в него.
Очень важны твои оценки, «Семён». Другому надо было бы на освоение год или два, а этот на лету схватывает и делает совершеннее, чем ему показывают. В результате вы должны выстроить пластику этого эпизода. Хорошо? Вот и разрабатывайте, усложняйте этюд. Необязательно повторять все движения сапожника, как есть на самом деле. Натурализм не нужен. Как в живописи. Есть реалистические рисунки, и есть живопись, скажем, Матисса. Чтоб ото было, помимо всего, ещё и красиво. Просто и красиво. А потом можно музыку подобрать, которая будет соответствовать этому ритму. Музыка должна быть национальная, русская, народная.
Ведущий! Читай!
— Лев Николаевич Толстой. Народные рассказы. «Чем люди живы». «Дети мои! Станем любить по словом или языком, но делом и истиной», — читает ведущий.
— Обожди. У тебя в руках книга. Вижу, удобная, только к ней и нужно привыкать. Ты уже научился стоять на сцене. Очень хорошо. Но в самом начале, по-моему, у Толстого три значительные паузы. Первая — автор, да? Автор не кто-нибудь, а Лев Николаевич Толстой. Вторая… Я буду читать. Что? Народные рассказы. Какой именно? «Чем люди живы». А теперь эпиграф. Здесь пауза побольше, это уже начало повествования: «Дети мои!» Начни, пожалуйста, сначала, и пошли дальше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу