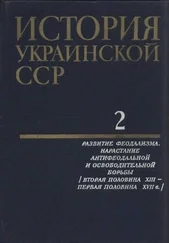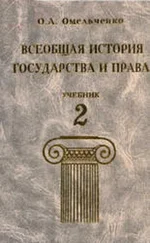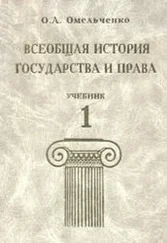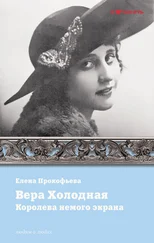Lapierre М. Les Cent visages du cinéma. Paris, 1948, p. 462.
Французское название — «Кризис» («Crise»). — Примеч. ред.
Der Regisseur G. W. Pabst. Münich. Photo- und Filmnuiseum. 1963.
Л. Вайда (1906–1965) — испанский режиссер, начинавший кинематографическую карьеру в Германии в качестве сценариста. Вайде принадлежит сценарий первого звукового фильма Пабста — «Западный Фронт. 1918» (1930). — Примеч. ред.
В 1929 году Р. Освальд поставил фильм на сходную тему — «Пробуждение весны», по пьесе Ведекинда. — Примеч. ред.
«Filmwoche», 1929, N 51.
«Ворон» («Corbeau», 1943) — фильм французского режиссера А.-Ж. Клузо — Примеч. ред.
Цит. по кн.: Кракауэр 3. Психологическая истории немецкого кино, с. 184.
Brooks L. Monsieur Pabst. — In: «Positif», 1958, N 27, févr.
Desternes J. Quatre premiers entretiens sur le réalisme — In «La revue du cinéma», 1948, N 18, oct.
Fraenket H. Unsterblicher Film. Munich, 1956, S. 425.
По словам Ганса Рихтера («L'Age du cinema», N 6), «Хиндемит написал партитуру, которая была представлена на музыкальном фестивале в Баден-Бадене, синхронизированную по системе Блюма, так же как «Опус» Руттманна с партитурой (Ханса) Эйслера. Это были два первых синхронизированных фильма в Германии».
Ruttmann W. Wie ich meinen «Berlin»-Film drehte — In: «Licht-Bild-Buhne», 1927, 3 oct. (in: «Film Wissenschaftliche Mitteilungen», 1965, N 1; статья Вольфганга Дитцеля).
Meizner E. German Censors' Incomprehensible Ban. — In: «Close up», Territet (Suisse), 1929, May (in: Cineaste, Deutschen Filmlage. Gottingen, 1953).
Arndt-Steinttz D. Filmstudio 1929 — In: «Illustrirte Film Zeitung» (прил. к «Berliner Tageblatt», 1929, 25 Jul.).
«Kinemathek», 1968, N 40, Nov.
«L’Age du cinéma», N 6.
В русском переводе — «Живем, живем!» (1928). — Примеч. ред.
Вот список фильмов, включенных в постановки Пискатора до 1929 года: 1926 — «Сильный прилив» («Sturmflut») Альфонса Паке (фильм И.-А. Хюблер-Калы); «Шторм над Готтландом» Эма Велка (фйльм Курта Ортеля); «Хоппля, мы живем!» Джона Хартфилда (фильм Ортеля); «Распутин» Алексея Толстого и П. Щеглова (адаптация Пискатора, Феликса Гасбарры, Лео Лании и Бертольта Брехта, фильм Хюблер-Калы); 1928 — «Швейк» Макса Брода и Ханса Раймаина (адаптация Пискатора, Гасбарры, Лании и Брехта, фильм Хюблер-Калы). В последнем фильме были смонтированы натурные кадры Праги и мультипликация на основе рисунков Гроша.
Анхель Суньига (in: Una historia del cine. Barcelona, 1948, t. 2, p. 274–276) приводит текст Пискатора об использовании фильмов в театральных постановках. Пискатор заявляет, что он не был в курсе аналогичных советских экспериментов, и описывает различные возможности включения кино в театральное действие:
«Дидактический фильм представляет современные или исторические объективные реальности и поясняет зрителю сюжет действия. Никто не обязан досконально знать генеалогическое древо Николая II, историю царизма или значение русской православной церкви. <���…> Поэтому «Распутин» начинается с элементарного урока истории, на котором демонстрируются портреты царей с сопроводительным текстом: «Умер в одночасье…», «Умер сумасшедшим…», «Покончил жизнь самоубийством…» <���…>
Драматический фильм включается в действие и заменяет некоторые сцены. Там, где сцена затягивается монологом, диалогом или интригой, кино может прояснить ситуацию несколькими кадрами. Необходимый минимум: войска бунтуют… ружья летят вверх… революция победила… красное знамя над мчащимся автомобилем и т. д. <���…>
Фильм-комментарий сопровождает действие как хор. Дибольд даже сравнивает его с античным хором. Этот фильм обращается непосредственно к зрителю, говорит с ним («Извините, не принимайте это в штыки, но мы всегда начинаем сначала — «Распутин», пролог). Он привлекает внимание зрителя к важным переменам в развитии действия. <���…> Он критикует, обвиняет, сообщает важную информацию; иногда ведет прямую агитацию. <���…> Но фильм-комментарий может отказаться от слов, как, например, в сцене трех промышленников, где дается ответ фильмом-документом, говорящим на своем языке. <���…> Как и в «Шторме над Готтландом», в «Распутине» фильм служит проекцией будущего. Фильм, перенося героев в их будущее, приводит сцену к ее действительному содержанию (казнь Царской семьи в фильме, включенном в «сцену заклятия» в последнем действии)».
Читать дальше