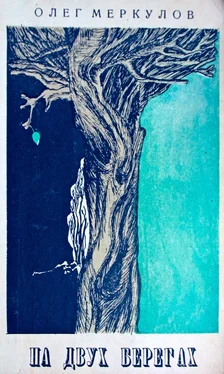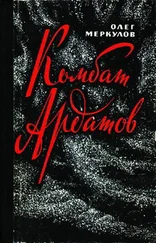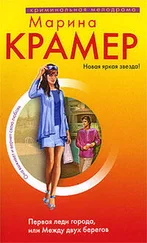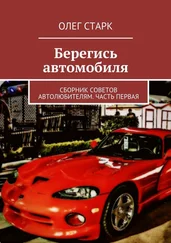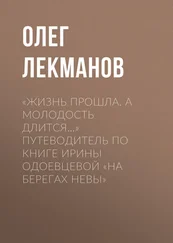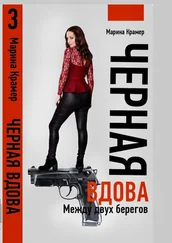- Ничего! - тихо сказал Андрей. - Сколько им так хозяйничать?
- Вот именно, - согласился майор. - Хозяйничать им мало. Поэтому и надо смотреть! Если останемся живы, расскажем. А ведь они думали, - майор, не вынимая рук из карманов шинели, показал подбородком и на конвоиров, и на немцев на станционной платформе, - навсегда! Навечно! На тысячу лет! - Майор вдруг хмыкнул и, не раскрывая рта, засмеялся.
Пленные, одни удивленно, другие сердито, но все посмотрели на него, потом на конвоиров, потом опять на него, одни с радостью, потому что этот совсем не к месту, не ко времени смех майора как бы родил в них еще надежду на благополучие в близком ли, далеком ли будущем, другие, опасаясь, что такое поведение майора навлечет на них злость конвоиров и им всем от этого будет хуже. Но майор, встретившись взглядом с их взглядами, перестал смеяться и строго оглядел их всех, как бы определял, на что каждый из них годен.
Андрей между тем, на секунды как-то забыв, что он пленный, забыв все свое горемычное положение, смотрел на станцию, на все, что происходило на ней, смотрел во все глаза, запоминая.
Что ж, немцев за два года войны он видел, и немало. Но не так.
Он видел их, когда они еще с расстояния в километр представлялись короткими движущимися колышками, ни ног, ни рук, ни головы в тех колышках не различалось. По мере приближения все это начинало угадываться, а потом и различаться, колышки превращались в фигурки, которые бежали, стреляли, падали, вновь вскакивали, чтобы бежать и стрелять. Так было при атаках немцев. И он тоже должен был в них стрелять. И стрелял. И кидал в них гранаты, когда они сближались на такую дистанцию, что он не только видел их лица, но даже выражение на этих лицах.
Он участвовал и в уличных боях. В этих боях случалось, что его от немцев отделял лишь переулочек, за которым немцы занимали дома, и он видел, как мелькали они за разбитыми окнами, стреляя через них. А в Сталинграде он с ребятами из роты два дня удерживал третий и четвертый этажи какого-то большого дома, когда первый и второй уже были заняты немцами. В Прилуках, отбивая школу, ворвавшись в нее, швыряя в коридорах гранаты, он нос к носу неожиданно столкнулся с рослым фельдфебелем. Фельдфебель на бегу пытался перезарядить свой «шмайссер». А у Андрея в магазине оставалось патронов еще на короткую очередь, и он всадил эту очередь в фельдфебеля. Фельдфебеля отшвырнуло к двери учительской. Падая, фельдфебель судорожно хватался за табличку с надписью «Учительская», оборвал ее с одного гвоздика, она повисла на другом, слегка шатаясь, как маятник, над скорчившимся под ней фельфебелем.
Немцев других - пленных - он тоже видел. Видел их и в расположении роты, здоровых, хмуро, настороженно оглядывающихся - не расстреляют ли? - раненых или стонавших, или молчавших, прислушивающихся к боли, старавшихся сидеть, лежать или двигаться так, чтобы боль была тише. Видел их в тылу, угрюмо и медленно работавших, отворачивающихся от любопытных, насмешливых, презрительных взглядов. Видел других, фальшиво-добродушных, фальшиво-приветливых, фальшиво-заискивающих немцев, которые просили: «Табак, цигаррет, брод», - добавляя для убедительности: «Война - капут. Гитлер - капут!» Это, как правило, они добавляли, когда поблизости не было других пленных.
Даже в блиндаже, где были их офицеры, куда его затащили разведчики, даже в их дивизионном тылу все-таки все было не так, как на станции, была война. А здесь войны как бы уже и не было. Ходили, прогуливаясь по перрону, стояли на нем в одиночку и группами начищенные, ухоженные денщиками офицеры, они спокойно курили, о чем-то разговаривали, поглядывали на часы. Суетились, бегая за
кипятком или еще по каким-то делам, солдаты, спокойно и важно парами ходили жандармы, держа, руки на псвешенных поперек груди автоматах, поглядывая из-под касок, изредка останавливая какого-нибудь появившегося солдата, требуя документы.
Тут даже работая базарчик. Чуть на отлете от скверика станционного здания, между этим сквериком и пакгаузом, по ту сторону дороги, по которой подъезжали к пакгаузу, чуть в глубине от нее было несколько столов, за которыми расположились торговки. Перед ними на досках стояли миски с картошкой, огурцами, капустой, кусками пареной тыквы, прикрытые, чтобы не замерзли, тряпицами. Стояли, укутанные в мешковину и рогожи бидоны с молоком, а может быть, и с квасом. У одной женщины были лепешки, перед другой возвышалось десятка два яблок, сложенных в пирамидку, а единственный среди торговок мужчина, подвыпивший старикашка в потертой дамской шубке, поверх которой он был еще повязан дырявым платком, выложил на обрывок полотенца небольшой, с полкило, брусок сала.
Читать дальше