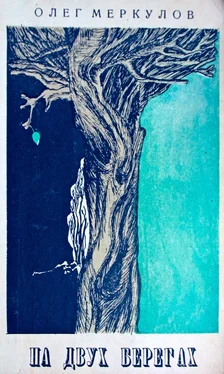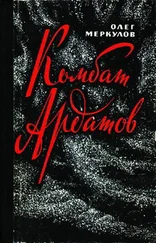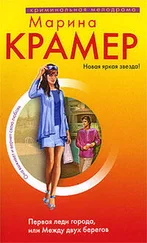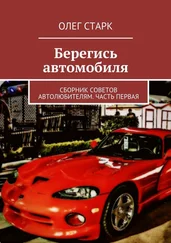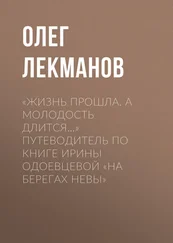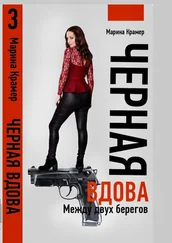Повесили их, наверное, несколько дней назад, так как от дождя и морозца и их лица, и темная железнодорожная шинель мужчины, темные же брюки, заправленные в сапоги, сами сапоги, зеленое пальтишко девушки, ботик на одной ноге и чулок над ботиком, весь чулок на другой ноге, так как ботик с нее свалился - все было покрыто тонкой корочкой льда. Эта корочка серебрила покойников.
Выше повешенных была прибита фанера, на которой для всеобщего сведения объяснялось: «Семья партизан». Под доской лежала потертая шапка отца и ботик дочери, а полушалок девушка, видимо, сдернув перед казнью, судорожно стискивала в кулачке.
У столба, хмуро поглядывая по сторонам, держа приклад под мышкой, а ствол винтовки перед собой, топтался часовой, но не немец, а синемордый, видимо, порядочно замерзший пожилой полицай из местных в брезентовом, подпоясанном плаще поверх телогрейки и в шапке, на которой была какая-то ветвистая кокарда.
Все немцы в машине молча посмотрели на повешенных, тот немец, который давал ему прикуривать, даже вынул сигарету изо рта и держал ее на отлете, как бы для того, чтобы не мешал дым. Потом, не сговариваясь, они все коротко взглянули на Андрея, как если бы хотели дать ему понять, что и он будет так висеть, если удерет к партизанам. Но он не опустил голову, а, сжав лавку, только прищурился, и немцы перестали на него смотреть. Тут грузовик минул ворота, дернулся влево к пакгаузу и остановился. Подхватив свои ранцы и оружие, немцы полезли через борта; чуть подождав, чтобы хоть секунды побыть наедине с собой, слез с грузовика и Андрей.
На земле немцы вдруг загалдели, заговорили, заулыбались, как если бы их прорвало. Видимо, только сейчас, на станции, они по-настоящему уразумели, что и правда едут в отпуска. Видимо, даже когда и приказы в их батальонах (или полках - кто их знает, где у них отдают приказы об отпусках), когда приказы были подписаны, когда эти немцы и узнали об этом, когда собирались, даже когда ехали сюда, им все-таки до конца не верилось, что они получат свои отпуска. Здесь же, увидев поезд, уходившие на запад рельсы, они вдруг поверили.
- А ну, шевелись! Быстро, комсомол! - радостно-зло скомандовал Андрею конвоир и больно ткнул его стволом карабина в ребро.
Он был передан под охрану других немцев, тех, кто сторожил небольшую группу пленных, отведенных к самому краю перрона, за пакгауз, к уборной. Старший из конвоиров принял у сопровождавшего его немца какую-то бумажку, вчитался в нее, кивнул, взял мешочек с документами, повел автоматом в сторону уборной.
Андрей, делая этот десяток шагов к пленным и виновато - что и он попался! - и в то же время радостно смотрел в их лица. Это были свои, русские, солдатские лица. Вообще каждая капелька этих пленных была своей - серые, а не зеленые шинели, кирзовые голенища сапог, брезентовые ремни, растрепанные, обожженные у костров шапки, тряпичные, затертые лямками вещмешков, погоны - все, все в этих людях было своим, и Андрей почувствовал, как горько-соленый комок стал ему поперек горла.
- Привет, - бросил он. - Привет, славяне! - «Славяне» относилось ко всем пленным, в том числ и к какому-то смуглому солдату | с восточным разрезом глаз. «Славяне» было тем общим словом, которое родилось во время войны для обозначения принадлежности к тем, кто воевал против немцев. Формально не точное, так как против немцев воевали народы всего Советского Союза, слово до «славяне» приобрело значение «свои», «советские». И то, что на его «Привет!» ответил в числе других и тот смуглый, по виду туркмен, было обычно.
- Я пятый день у них, у иродов, - шагнув ему навстречу, сказал жилистый и длиннорукий сапер в бушлате, - а «шнель, щнель, шнель!» слышал раз тыщу. У них, поди, все и держится на этом «шнель!» Привет, браток. Значит, нашего горемычного полку прибыло? Откель ты? Не томский, случай?
Они долго стояли в хвосте эшелона тесной кучкой - их было двенадцать человек, безоружных, в раздерганных шинелях, ватниках, бушлатах. Они стояли, подняв воротники, надвинув шапки, сунув руки в карманы, хмуро озираясь, рассматривая, что происходило на этой крохотной станции, куда их привезли, чтобы, наверное, перебросить в какой-нибудь лагерь.
Они молчали, да и о чем могли они сейчас особенно говорить? Переминаясь, вздрагивая от холода и озобоченности, они жались к майору, единственному среди них офицеру, словно майор знал за них, что км делать, как жить дальше, и вообще знал всю их будущую судьбу.
Майор-артиллерист, пожилой человек с узким обветренным лицом, чуть нависал над ними, потому что был и выше и еще потому, что голова его была замотана многими бинтами, как чалмой. Майор время от времени сплевывал кровавые сгустки, морщился, тяжело вздыхал и негромко, так, чтобы конвойные не очень слышали, подбодрял их:
Читать дальше