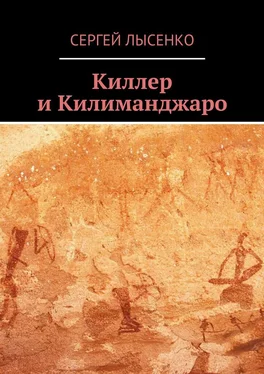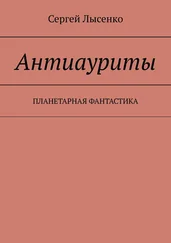Деньги как наркоз: чем их больше, тем дольше обезболивают. Когда их мало, когда на купюрах не Сковорода, а, скажем, Грушевский, просыпается сиротка-совесть, чахлое дитя в старушечьей косынке. Наводит на меня свои телескопы, качает головкой, причитает. Сосет душу через трубочку. Чтобы ее унять, приходится придумывать оправдания. Злословить об умерших. Находить в людях плохое.
Это несложно, ведь плохое можно найти всегда. Вот взять Мажару. Все смертные грехи, как грязь на подошвах – и алчность, и желчность, и чреводеяние, и блудодеяние. Чего только стоит объявление несправедливой войны. И зачем было поднимать меч против нас?
Другие ничем не лучше Мажары. Святых людей нет, по крайней мере у нас… Священник на «Лексусе» сбил прохожего и уехал. Учитель на «Фуджи» изнасиловал ученицу и тоже – в бега. Я их не убивал, но если бы пришлось, меня бы не мучила совесть.
Моя совесть очень слаба, она болеет с самого детства. Долгое время она была в коме и вообще не беспокоила меня. Я мог позволить себе многое. Убивать кого угодно и как угодно – без оглядки на мораль.
Одного я прирезал на Алексеевке – посреди людной улицы, и меня никто не запомнил. В другой раз я ушел от облавы на Салтовке, пристрелив троих. Я гордился собой.
А что теперь? Теперь мне стыдно смотреть на ментов, которые прибыли раньше на место преступления. А им стыдно смотреть на меня. Мы проходим мимо, пряча взгляды. В нашем случае – ещё один «висяк».
В зеркале я вижу Дурманова. Это мужчина…
Что ещё можно сказать о Дурманове?
В детстве он ел плохо, потому что выделялось мало слюны. Врачи говорили, что это от нервов. Мама пережевывала еду и скатывала из нее сочные шарики, но Дурманов все равно не ел. У матери были разноцветные глаза. Один каре-зеленый, другой – тигровый. Такое чаще встречается у животных, чем у людей. Мать была решительной и бесстрашной. Чего не скажешь о ее сыне, грозе щенят и цыплят. Неудивительно, что в шестом классе его побил пятиклассник Гусь. Когда синяки пожелтели, Дурманов получил кличку Поганов. И так – до выпускного, до танца с Томкой Килькой и того самого поцелуя. Оказалось, что он не поганка, а шампиньон – он может кому-то нравиться. Лед тронулся. Дурманов поступил в Зооветеринарную академию и выучился на менеджера. В его группе были одни девушки – Дурманов выбрал себе цыганку, которая не умела гадать, петь и танцевать.
Что ещё? Когда Дурманов брился…
Вот черт… снова порезался.
– Валера!
Жена зовет завтракать. Жену зовут Полиной Леонтьевной.
– Сейчас, Полина Леонтьевна.
Давным-давно она преподавала ему русский язык и литературу. Она была самой красивой женщиной в школе. В неё влюблялись все ученики и все учителя. Увы, их любовь не была долговечной. Лишь Дурманову удалось сохранить свои чувства.
Однажды осенью Дурманов нашел ее в чеховских местах. После развода с мужем, доцентом кафедры «Сопротивления материалов», Полина Леонтьевна вернулась на Луку, окраину Сум. Её родной дом, зажатый, задавленный соседскими коттеджами, находился чуть ниже разрушенной усадьбы помещиков Линтваревых – прямо на берегу реки Псел, где когда-то рыбачил Антон Павлович. Работала Полина Леонтьевна рядом, во флигеле, превращенном в Дом-музей Чехова. Водила посетителей по тесным комнаткам, рассказывала о жизни и творчестве писателя, о рассказе «Неприятность» и самой большой неприятности – смерти брата Николая, художника, больного чахоткой.
«Это тяжело подействовало на Антона Павловича. Он уехал в Ялту, но всю жизнь, всю свою жизнь, скучал по Луке».
Полина Леонтьевна стояла так близко, щекотала дыханием, пахла землей и листвой. Не отступала, не отстранялась, когда Дурманов напирал. Она знала, что молодой белоухий Антон Павлович, нарисованный Николаем Павловичем, не смотрит – отвернулся.
А на улице сыпалась осень. Золото стекало с осин на ивы и дальше – в воду. Кленовые веники над дорогой накалялись, краснели, багровели…
«Не слишком ли быстро?»
«Да, время летит…»
Зато в детстве оно тянулось, как жевательная резинка. Турецкие «Финал-90» или «Турбо» со вкусом автомобильных покрышек. Дурманов помнил, как болели скулы. Но он не останавливался – работал челюстями, множил вкладыши и ждал того дня, когда сможет жениться на русской литературе…
Мечта стыдливой любви, надежды милые черты… С каждым классом всё четче и смелее. И ничего, что учительница вышла за другого. Дурманов разворачивал очередной «Финал-90» (или уже «Финал-92»), засовывал вкладыш с дредастым Гуллитом (или солнцеголовым Вальдеррамой) под обложку тетради, а твердую, крохкую жвачку за щеку. Медленно разжевывал, постепенно смачивая слюной. Он знал, что после школы всё изменится.
Читать дальше