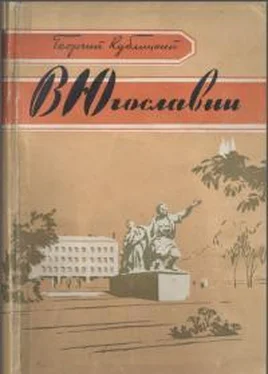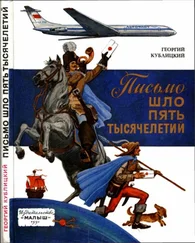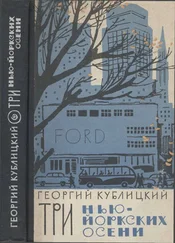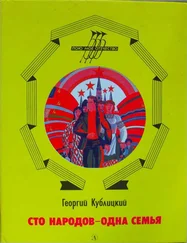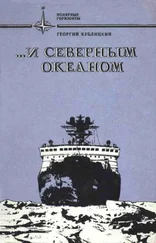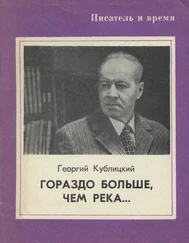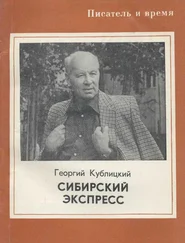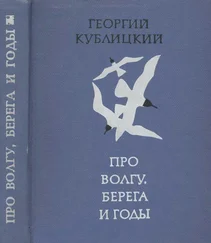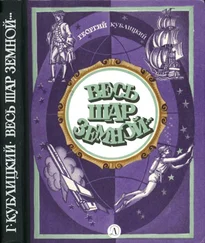Я снова сошлюсь на книгу «Рабочие управляют фабриками», где говорится о случае менее тяжелом, чем невыполнение плана всем предприятием: «…зарплата больше не зависит только от личного, но и от коллективного труда. На практике это значит, что отдельный рабочий, лучше работающий в этом месяце, чем в предыдущем, может получить и меньший заработок, поскольку предприятие в целом работало хуже, поскольку в его организации были пропуски (видимо, промахи? — Г. /(.), и оно плохо реализовало свою продукцию».
Не слишком ли тут много гадательного, неустойчивого? Работал лучше — заработал… меньше! Может, будет «вышак», может, придется довольствоваться обычным заработком, а может, и его урежут на сорок процентов… Почему урежут? Не потому, что ты не заслужил личным трудом права на дополнительную оплату («вышак» не падает с неба, это, в сущности, часть заработка, но доплачиваемая к концу года), а возможно, даже потому, что твою продукцию из за конкуренции не удалось выгодно продать!
Много все же странного для советского человека в сегодняшней Югославии!
Я, например, никак не мог понять, почему не только на трассе канала, но и на многих предприятиях говорят о социалистическом соревновании как о чем то ненужном, лишнем:
— Да, оно было и у нас, но отмерло. Не привилось. Заменено более важными, более жизненными стимулами…
Слушая все это, невольно думаешь: не объясняются ли частично отдельные нездоровые явления на югославских предприятиях «отмиранием» некоторых норм, связанных с понятием социалистического отношения к труду?
* * *
В одном из селений возле Пулы, — если не ошибаюсь, в Раше — я видел на стене здания памятную доску с надписью о том, что основная мысль Маркса: фабрики — рабочим, земля — крестьянам — осуществлена югославами первыми в мире. Октябрь 1917 года авторами надписи, очевидно, не принимался во внимание…
При оценке значения своих рабочих советов некоторые югославские деятели склонны забывать о всех других формах участия трудящихся социалистических стран в управлении производством. В то же время они приписывают органам рабочего управления чудодейственную универсальность. Ашер Делеон, например, уверяет, что подобные органы — «новый элемент социализма в несоциалистических странах», одновременно дающий работодателям и капиталистическому государству возможность смягчить «общественные противоречия» и улучшить «социальный климат». Если к этому добавить его утверждение, что на капиталистических предприятиях фабричные комитеты создаются отнюдь «не по чьему то капризу и не в чьих то интересах», а что они «в определенный момент исторического развития стали неминуемыми и неизбежными», то нетрудно понять, каково у сторонников подобной точки зрения представление о классовой борьбе…
В конце книги Делеон, назвав опыт своей «насыщенной внутренней силой и самоуверенностью» страны очень ценным, призывает: «Новые исследования следует внимательно изучить. Над приобретенным опытом следует задуматься!»
Что верно, то верно: безусловно, следует задуматься!
„ИЕРКО ИВАНЧИЧ“, ТРУДОВАЯ ЗАДРУГА
Вдоль коридора второго этажа старого каменного дома — двери с учрежденческими табличками: «Директор», «Канцелярия». В канцелярии, где резко стучит машинка, стены украшены зелеными нарядными дипломами. Их шесть; каждый в рамке, из которой свисает на шнурах массивная сургучная печать.
Дипломы свидетельствуют, что трудовая задруга «Иерко Иванчич», в канцелярии которой мы находимся, считается одним из лучших хозяйств Народной Республики Хорватии.
Анте Безич, сотрудник редакции газеты «Свободная Далмация», еще по дороге много рассказывал о задруге. Безич влюблен в свою профессию и свою Далмацию. Он знает здесь всех и всё. На улицах с ним здоровается каждый третий прохожий, и этого третьего Безич безошибочно может назвать по имени.
От друга Безича я узнал, что Иерко Иванчич был народным героем, а задруга, носящая его имя, принадлежит к высшему типу, к трудовым земледельческим кооперативам. Есть еще общие кооперативы, но это уж совсем другое, там главным образом сбыт и снабжение.
Задруга «Иерко Иванчич», по словам Безича, показывает пример всем окрестным крестьянам, как надо разумно, выгодно и по социалистически вести хозяйство. Конечно, в степях Воеводины задруги больше, мощнее. Но для горного побережья Далмации типичнее эта задруга, выращивающая для городов ранние овощи и фрукты. Жаль, — добавил Безич, — что директор задруги Петар Шегвич сегодня уезжает по делам в Загреб. Этот человек многое видел. Он был деятелем крестьянского движения еще в старой Югославии, а недавно ездил в Советский Союз, где знакомился с колхозами.
Читать дальше