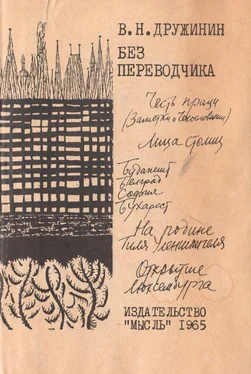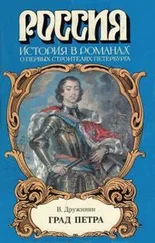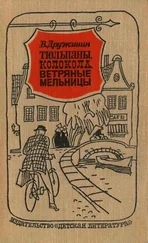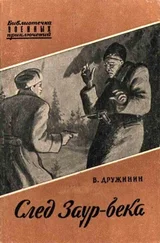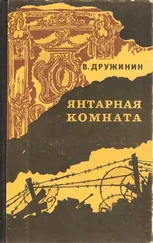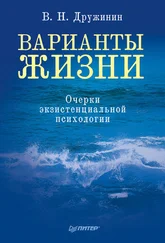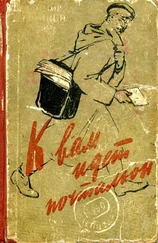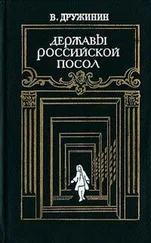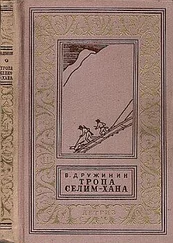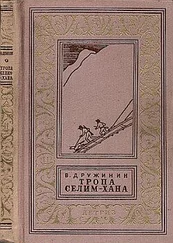Мы трогаемся дальше. Дорога все чаще взлетает с холма на холм и постепенно набирает подъем.
Уже смеркалось, когда мы нырнули в Вианден. Да, именно нырнули. Скатившись с пригорка, мы очутились на извилистой улице-теснине. Пышно разузоренные фонари на железных бра, подслеповатые мезонины, подвальные таверны, выщербленный лепной герб на стене, дева Мария в нише, одетая в ситцы по-крестьянски…
Вон, вон из машины! Разве можно не пройтись по этому городку-музею! Улица сбегает к речке Ур, к мосту, а затем карабкается на холм, к руинам огромного замка графов Нассау. Но не это главное в Виандене.
Возле моста, на набережной, стоит небольшой, вросший в землю дом. Посетителям показывают комнаты, оклеенные старыми, выгоревшими обоями, конторку, чернильницу… Можно прочитать слова, произнесенные однажды здесь, на крыльце, растроганным седовласым человеком:
«Я хотел бы все ваши руки собрать в своей, крепко сжать своей рукой…»
Он сказал это собравшимся у его крыльца местным жителям. Среди них музыканты, члены ансамбля «Рабочая лира». Они пришли, чтобы сыграть серенаду в честь дорогого гостя — Виктора Гюго.
Гюго приезжал сюда несколько раз. Он очень любил Вианден. Ему нравилось просыпаться на широкой деревянной кровати, вдыхать полной грудью воздух у открытого окна над речкой в солнечных бликах, нравилось бродить по лесам и среди развалин графской твердыни.
Однажды на колокольне ударили в набат. Гюго выбежал одним из первых, схватил ведро и всю ночь вместе с другими гасил пожар.
Гюго видели на осенней ярмарке орехов, у каруселей, видели в таверне среди крестьян за стаканом «кветча» — здешней сливовицы.
Последний раз Гюго занимал комнату в доме у моста летом 1871 года.
Дом у моста — святыня в Виандене. О Гюго говорят так, как будто он все еще живет здесь. Неслышно течет холодная, сонная речка. И холмы, и щербатые остатки крепости, и дома на том берегу — все поглотили туман и темнота. Только редкие фонари едва теплятся в дрожащей дымке. На мосту памятник. В чертах Гюго, высеченных из камня, залегли резкие, беспокойные тени.
В люксембургской Швейцарии
Право, километры здесь другие!
Всего-навсего сотня их намоталась на спидометр — расстояние, по нашим масштабам пустяковое. А между тем позади уже больше десяти городов и несколько областей с разными наречиями. В одном селении мы слышали знакомое «гуден мойен», в другом — «мюрген».
От волнистых равнин юга страны, лишь кое-где зачерненных лесом, мы проехали по мозельской долине винограда на север, затем поднялись по ступеням хвойных Арденн. Сменялись ландшафты, климаты.
На юге, вокруг домен, на квадратный километр приходится до тысячи человек, а в лесных районах севера — тридцать — сорок человек.
Городок Клерво как будто сполз с крутой горы вместе с осыпью. Стряхнул с себя песок, гравий и, едва удержавшись на крутом берегу, впился в ложбины своими зигзагообразными, отчаянно раскиданными улицами. Они словно прячутся от надменного аббатства, громоздящегося на холме, того самого, которое вошло в историю католической церкви как оплот жесточайшего доктринерства и нетерпимости. Оно видно из всех домов городка. Кажется, даже пустые окна заброшенного замка взирают на обитель с немым подобострастием.
В тени, падающей от замка, у входа в мясную лавку висит кабанья туша — огромная, лохматая, черная; от нее так и веет лесной чащей.
Два мальчугана «расстреливают» кабана, упоенно щелкая жестяными пистолетами. Это маленькие ковбои. На них широкополые шляпы, пояса с бляхами и кобурами, — должно быть, подарок к рождеству.
Киносъемочный аппарат Каплера, конечно, уже действует. Поэтесса Юлия Друнина, как всегда, режиссер съемки. По ее указаниям ребята разыгрывают батальные сцены. Все довольны.
— Вы охотники? — спрашивают ковбои по-французски.
Охотники, видно, здесь в почете. Мальчики вежливо молчат, но чувствуется: мы безнадежно упали в их Глазах.
— А то мы бы вам показали, где барсук живет, — сказал один ковбой.
— Мы знаем, где олени есть, — похвастался его приятель.
— Где?
— Вон там, — и он показал на лес, нависший над городком, — Очень-очень близко.
Детский писатель Макс Бременер заговаривает с ребятами по-немецки. Они бойко отвечают.
— Может быть, они и по-грузински могут, — смеется поэт Нодар Гурешидзе.
А где же суматошная, тесная, окутанная заводским дымом Западная Европа? Наверно, за тридевять земель…
Читать дальше