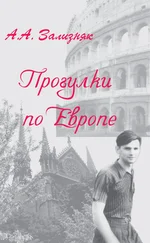26 ноября, четверг. Разбудили в 6 часов. Состояние бездумное. «А теперь мы вам вколем морфина для спокойствия». Лежу – вроде не берет. А потом сразу какой-то подвал. Рядом Лена стоит. Спрашиваю: «Is the operation over?» Говорят: да. Лена переводит кого-то из врачей: «Углекислый газ делает его усталым». Говорю: «This is not very beautiful Russian».
Надо мной стоит врачиха-полька Эва, дает мне команды по-польски. «Он же русский – должен понимать по-польски!» Язык не ворочается. Лена рассказывала, что изо всех мест торчали трубки и что я страшным образом оскалился – она сперва испугалась, а потом поняла, что это была по замыслу улыбка: дескать, вот как всё замечательно.
28 ноября. Статус тяжелого больного, которому все разрешено, у меня отнимают – заставили побриться, а вскоре после этого заставили ходить! Перевели в палату на двоих, сосед – Нильс Андерссон. По-английски говорит неохотно, предпочитает по-шведски.
29 ноября, воскресенье. Advent (4-е воскресенье перед Рождеством). В честь этого во всех окнах города горки свеч (электрических), в нашей палате тоже; а вечером салют.
Замечательны сестры – одна милее другой. Похоже, что их профессиональная подготовка только в-третьих состоит в том, чтобы делать уколы и мерить давление, а во-первых и во-вторых в том, чтобы веселить больных, улыбаться им, подшучивать над ними и никогда не вступать с ними в пререкания. И результат очевиден: в палатах и в коридорах настроение дома отдыха, а не больницы.
Потом увидел в коридоре плакатик: Vi är bra i eftervård (мы молодцы в послеоперационном уходе) и совершенно с этим согласился. Но, конечно, главный секрет у них в арифметике: на одного больного в этой больнице приходится два человека персонала – врачей и сестер.
В больнице нет никаких фамилий – решительно всех зовут только по именам (и, разумеется, на ты). Андрэ́й — кричат все сестры, нянечки и врачи. И на руке у пациентов бирка с именем, как у новорожденного – чтобы узнать, когда без сознания или когда просто спишь.
30 ноября. Зашел Ханс-Эрик – на сорок секунд – как крыло божества. В нем какая-то мистика великого врача. Таинственный, как древний волшебник; тишайший голос. Внушает абсолютное, беспредельное доверие.
Нильс уже полностью перешел на шведский. Но старается быть педагогичным: выговаривает все слова медленно (что́, впрочем, ему и без того совершенно естественно) и произносит все непроизносимые буквы – как написано. С такой же скоростью порождаю свой ответ и я. Нильса такой ритм беседы вполне устраивает. И спешить нам совершенно некуда.
Складывается неторопливый солидный мужской разговор. О банальном – здоровье, семья, дети и т. п. – никакой речи. Обсуждаем только существенное: раскопки в Бирке, [buris eltšin], неродственность румынского и болгарского языков, что значит «наука доказала, что…». Наконец Нильс задает вопрос, который, видимо, особенно его трогает: «Как ты думаешь, Андрей, vad är sanning? (что есть истина?)». И ведь Нильс не крал этого вопроса у Пилата (он настроен антицерковно и просто не знает о Пилате). Каждый из них двоих своим путем пришел к осознанию этой проблемы.
1 декабря 1992. Позвонил Мельчук. Рассказал ему, как сестра (про которую Нильс говорит: sköna flicka 'красивая девочка' – в разговорном произношении примерно [huöna]) считает мне пульс и говорит: sjutti sju '77' [huitti hui]. Он остался доволен.
Перед ночью Нильс нажимает на кнопку вызова сестры. «Ты должна принести мне виски, – говорит он появившейся сестре, – потому что я завтра выписываюсь». – «Как? Я ничего такого не знаю», – говорит сестра. – «Du är ännu ung (ты еще молодая), – отвечает Нильс, – пойди к старшей сестре, и она тебе объяснит. Я здесь не первый раз и знаю, что в этой больнице есть старый обычай – угощать отъезжающего стаканчиком виски». Как и положено сестре, ни слова возражения, улыбнулась и пошла. Через короткое время возвращается с подносиком, на нем два пластмассовых стаканчика. Один протягивает Нильсу, другой мне. Я говорю: «Но я же еще не уезжаю!» – «Но ты же не хочешь, – отвечает, – чтобы твой друг пил один!» Спрашивать, разрешает ли мне это врач, я уже не стал.
3 декабря, четверг. Разговор с Ханс-Эриком: «Вы, наверно, знаете, что Русский Институт (это значит, Свен Густафсон) уже оплатил ваш счет. Мы должны вас выписать в пятницу. Но вы можете остаться у нас до понедельника – наше отделение дарит вам эти три дня».
(Я не знал тогда, что мой счет был вдвое меньше обычного: Ханс-Эрик по дружбе с Уллой отказался от своего гонорара за мою операцию. Не знал и того, что Густафсон организовал сбор денег на эту операцию среди лингвистов разных стран и что откликнулось более тридцати человек. И даже когда мне об этом в общих словах сказали, Густафсон не хотел мне показывать их список. Я говорил ему: «Но ведь я мог бы по крайней мере их поблагодарить». – «Нет, – отвечал он, – они присылали эти деньги мне, а не вам, я и буду их благодарить».)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Андрей Зализняк Прогулки по Европе [litres] обложка книги](/books/430207/andrej-zaliznyak-progulki-po-evrope-litres-cover.webp)





![Рэндалл Силвис - Прогулки на костях [litres]](/books/391438/rendall-silvis-progulki-na-kostyah-litres-thumb.webp)