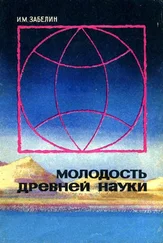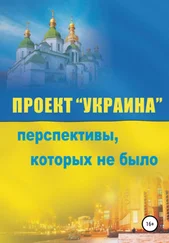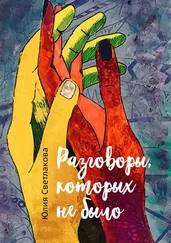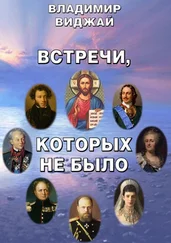А после ужина Балагын, ненадолго отлучившись, вернулся к костру с ветками можжевельника, или арсы, как его там называют. Он положил ветки на еще раскаленные угли, на ветки выскреб остатки пшена из котелка, добавил к ним несколько птичьих косточек и присыпал все это щепоткой сахара… Удачливый день с куропаточьим супом остался уже позади, а наутро предстоял дам нелегкий путь по долине Ихе-Ухгуна, имевшей дурную славу: разумно было на всякий случай ублажить всевышнего!
Пока Балагын занимался священнодействиями, я расстелил кошму и спальный мешок, повесил на колышки сырые ботинки и лег. Снег кончился. Сквозь размазанные по небу облака просвечивали звезды. В теплом спальном мешке приятно было дышать студеным горным воздухом и приятно было, глядя на звезды, думать и о том, что уже сделано, и о том, что еще ждало впереди.
Я расценивал свою работу на Ильчире как весьма удачную. Мне удалось установить, что в доледниковое время котловина имела наклон в сторону, противоположную современной, и, таким образом, Ильчирский ледник вообще смещался не к Иркуту, а к Китою. Котловину я теперь называл Ильчиро-Китойской. Ее перегородила морена, изменившая течение рек, но в тектоническом отношении истоки Иркута и Китоя были едины…
«Спор, таким образом, состоится, — думал я. — Во всеоружии новых фактов я непременно выступлю против Преображенского, против Обручева…»
Забегая вперед, скажу, что по своим материалам я написал и напечатал статью под названием «О характере последнего оледенения в верховьях рек Иркута и Китоя ». Она не прошла незамеченной: Сергей Владимирович Обручев откликнулся на нее в работе «Восточная часть Саяно-Тувинского нагорья в четвертичное время», в которой отстаивал свою точку зрения. Я тоже не собирался сдаваться и опубликовал «Несколько замечаний к статье С. В. Обручева…».
Тогда, морозной ночью у перевала Тумелик, все это было еще в далеком будущем, а близким будущим был переход по Ихе-Ухгуну. Я знал, что он уже не внесет сколько-нибудь серьезных изменений в мои взгляды, и знал, что, несмотря на забавные предосторожности Балагына, день будет обычным — с болотными топями, с крутыми подъемами и спусками — один из многих почти одинаковых дней.
И потому менее всего размышлял я о предстоящем маршруте. Я думал о странном стечении обстоятельств: мне предстояло выступать на стороне Черского против исследователя, увековечившего его имя на географической карте…
Труд и горе были неразлучны со мною.
И. П. Алибер
Ночь на 31 августа 1948 года наш небольшой физико-географический отряд Восточно-Сибирской экспедиции Московского университета провел у подножия Бельских гольцов, в самом центре Восточного Саяна. Утром нам предстояло подняться на перевал Батын-Дабан, а затем выйти к Ботогольскому графитовому руднику. Лагерь мы разбили на берегу небольшой прозрачной речки Тустук. Долину Тустука когда-то занимал ледник. Он сгладил соседнюю вершину, нагромоздил около нее моренный холм; одолеть выходы твердых коренных пород ледник не смог, и они сохранились в виде останца-ригеля; поперечная гряда морен, почти перегородившая долину, показывала, до какого места обессилевший ледник смог доползти.
Ночью прошел дождик, но к утру прояснилось и подморозило. Вышли в маршрут мы рано, когда тайга еще не успела согреться. Лишь на освещенных солнцем ветвях лиственниц ледяные иголки инея свернулись в радужные водяные капельки; промерзший моховой покров с хрустом ломался под ногами.
Километра через три тропа резко свернула в сторону и по притоку Тустука, речке Дабан-Джилге, стала круто подниматься. Вскоре мы взобрались выше лесного пояса; последние мелкие лиственницы еще отважно карабкались вверх по скалам, но потом и они отстали.
Высшая точка перевала Батын-Дабан находится на высоте 2273 метров над уровнем моря. Там, на небольшом плато в пределах гольцового пояса, мы взяли «точку», то есть описали местность и пополнили наш гербарий высокогорными растениями, ближайшими родственниками тех, что обитают в тундре на Крайнем Севере. Пока мы работали, небо затянуло белесовато-серой пасмурью. Сильный студеный ветер нес над перевалом мелкий сухой снег.
По другую сторону перевала снова начался лес, но не лиственный, а кедровый, с густыми зарослями бадана, плотные листья которого сушат и заваривают вместо чая. В тех районах Восточного Саяна, где мы до сих пор путешествовали, преобладала светлохвойная тайга и кедровый лес встретился нам впервые. Поэтому начальник отряда Николай Иванович Михайлов и я остались, чтобы Собрать гербарий, а все остальные пошли дальше, спеша к руднику. Здесь, в кедровом лесу, уже сказывалась разница в высоте; снег сменился мелким дождем. Ждать улучшения погоды не приходилось. Того и гляди мог зарядить настоящий дождь, и мы времени даром не тратили.
Читать дальше
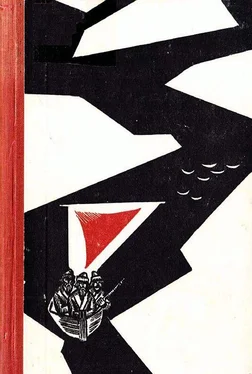

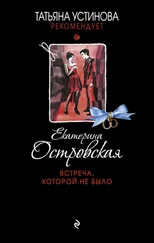
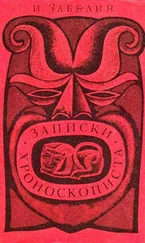
![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/408249/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno-thumb.webp)