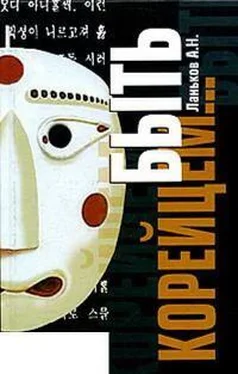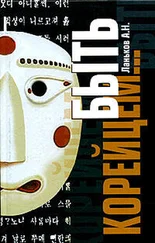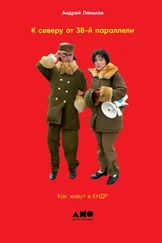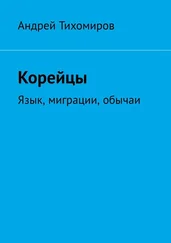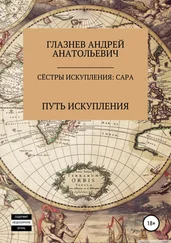Не удивительно, что наибольшее количество наложниц имел король. Однако и у корейского короля была только одна жена. Между женой и наложницами лежала пропасть, которая была практически непроходимой. Конечно, король мог, если уж ему очень этого хотелось, развестись с женой, и официально провозгласить своей новой женой бывшую наложницу. Такие ситуации в корейской истории действительно возникали – например, так поступил король Сукчжон в конце XVII века – однако случалось такое очень редко. Во-первых, королева обычно происходила из влиятельного аристократического рода, и её многочисленные родственники вполне могли за неё постоять. Например, тому же Сукчжону его развод (который в итоге пришлось аннулировать) доставил немало политических проблем самого серьёзного свойства. Наложницы же, как правило, были если и не простолюдинками, то уж, по крайней мере, женщинами из довольно захудалых дворянских родов, за их спинами не было влиятельных и богатых семей, так что соперничать с королевой на равных они не могли. Во-вторых, такой поступок, как развод с женой, считался не совсем достойным короля. Поэтому, как бы король не относился к королеве, она обычно оставалась его женой, хозяйкой его дома (точнее, дворца), и официальной соправительницей страны.
Впрочем, сказать, что корейская королева была соправительницей – некоторое преувеличение. Она, правда, участвовала во многих официальных или, как бы мы сейчас сказали, “протокольных” мероприятиях, но в целом женщинам в старой Корее в политику открыто вмешиваться не полагалось. Несмотря на это, не для кого не было секретом, что порою королевы обладали огромной реальной властью. В конце XIX века, например, именно королева Мин, жена последнего корейского короля Кочжона, во многом определяла и внутреннюю, и внешнюю политику страны. Кстати сказать, во внешней политике королева находилась на прорусских позициях, что и стало одной из причин её гибели – её в конце концов убили японские агенты. Однако формально, повторяю, жёны корейских королей должны были вести себя как тихие затворницы.
Кстати сказать, знаменитая фраза о том, что “жениться по любви не может ни один, ни один король!” вполне относится и к корейским владыкам. Жену королю подбирали родители или, если король вступил на престол малолетним, регентский совет, и исходили они при этом вовсе не из личных симпатий короля, а из сложных политических расчётов. Если жена королю не нравилась – в его распоряжении были наложницы, которых он выбирал сам, однако оказывать формальное почтение жене он всё равно был обязан.
Итак, наложницы. Часто спрашивают, сколько их было? Никаких ограничений на их число не существовало. Обычно официально признанных наложниц было около 10-15, но в распоряжении короля были также и “кунънё”, то есть, в буквальном переводе, “женщины дворца”. “Кунънё” являлись дворцовыми служанками. Они мыли, убирали, стирали, готовили, делали тысячи иных дел, без которых жизнь в огромном дворцовом комплексе была бы невозможной. Однако “кунънё” не были просто служанками. При “поступлении на работу”, они должны были быть девственницами, и рассматривались как потенциальные наложницы короля. Король, если он только захотел, мог провести ночь с любой приглянувшейся ему служанкой, хотя в действительности в королевской постели смогли побывать лишь очень немногие из них. Любая любовная связь с иным мужчиной для “кунънё” считалась тяжким уголовным преступлением, она приравнивалась к измене супругу, то есть самому королю (даже в том случае, если король и в глаза ни разу не видел виновницу). Набирали “кунънё” раз в десять лет, при этом и они, и их родители должны были обладать хорошим здоровьем, а также не иметь среди своих предков тех, кто когда-либо осуждался за серьёзные уголовные или политические преступления. Обычно на службу во дворец отбирали совсем маленьких девочек, которым было только 5-6 лет, хотя бывали и исключения. Первые 15 лет жизни во дворце считались временем ученичества, а потом девушки официально получали звание “дворцовой прислужницы”. Любопытно, что проводившаяся по этому случаю церемония была копией свадебного ритуала. Единственное отличие заключалось в том, что на этой “свадьбе”… отсутствовал жених. Дело в том, что женихом (так сказать, “виртуальным женихом”) был сам король, и прошедшие церемонию женщины считались его потенциальными наложницами. Даже в том случае, если “кунънё” с годами покидала дворцовую службу и возвращалась в “большой мир”, вступать в брак она больше не могла, ведь до конца жизни она всё равно формально оставалась как бы “резервной наложницей” Его Величества.
Читать дальше