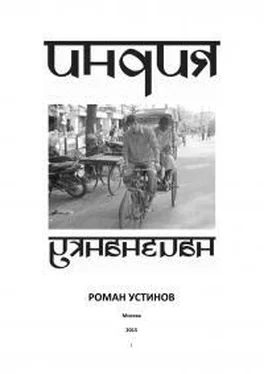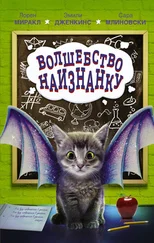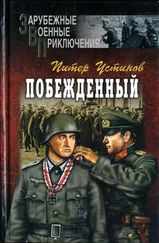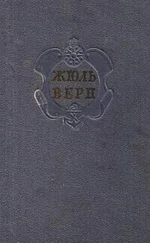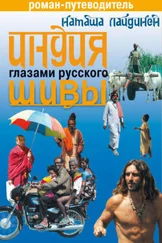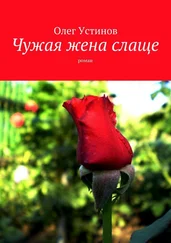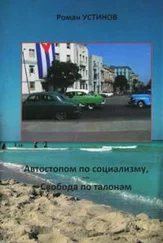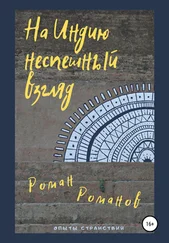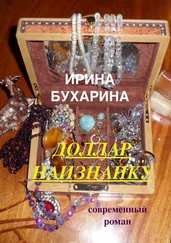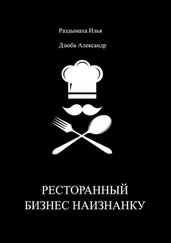За месяцы, проведенные в Индии, я уже успел привыкнуть, что коровы — это больше мебель, чем какие-то существа. Мелькая перед их глазами, можно было абсолютно не замечать их присутствия, никакого вреда от коров не получая. Я с легкостью умел расходиться со священными животными в индийских переулках и между торговыми рядами на рынках, и так некрасиво потерпел поражение от коровы непальской, стоявшей посреди пустой площади. Ругаться было бессмысленно: корова прожевала и проглотила часть моей штанины и продолжила обедать мусором.
Опозоренный перед непальцами, я запрыгнул в автобус и покинул Сунаули.
В память об этой корове на моей ляжке остался едва заметный шрам.
После деревенского Лумбини городок Тансен может показаться прямо-таки мегаполисом. Хотя ничего от мегаполиса в нем нет. Больше всего этот городок, расположенный между индийской границей и Поккарой — местом паломничества многих пеших туристов — напоминает что-то горно-европейское, наверное, итальянское: с брусчаткой, тридцатиградусными уклонами улиц и узчайшими проходами между домами: так, что и пара велосипедов разъедется с трудом, не говоря уж о тележках или машинах.
Из признаков мегаполиса я заметил только прилавки с газетами и журналами, а также интернет-кафе и переговорный пункт.
Весь индуистский — и не только — мир оплакивал Саи Бабу.
«Жизнь после Свами»; «Свами умер! Да здравствует Баба!» — гласили заголовки непальских газет. Саи-Бабовская паранойя докатилась и до Непала.
Неудивительно: смерть Путина в Белоруссии вызовет не меньший резонанс, чем смерть Саи Бабы тут, в Непале.
Еще раз мысленно почтив память Саи Бабы и абсолютно не сомневаясь, что Саи Баба находится сейчас в каком-то другом, более высшем и правильном измерении, я отправился на изучение города Тансена.
Первым делом я зашел на переговорный пункт, чтобы позвонить в Россию.
«Непал — 2 рупии/минута, Индия, Китай — 4 рупии/минута, Европа, США, Канада, Пакистан, Шри-Ланка — 6 рупий/минута, Африка — 10 рупий/минута» — говорила надпись на витрине переговорного пункта. Про остальные страны ничего сказано не было.
— Мне в Россию нужно позвонить, сколько стоит? — поинтересовался я у телеграфного работника.
— А Россия — это где? — силясь вспомнить, хмурился он. Непалец слышал про такую страну, но где она находится, к сожалению, не знал. — Какая там страна рядом?
— Ну, Китай например, — сориентировался я, желая непременно позвонить подешевле и, в общем-то, не соврав.
— Ага, ну хорошо, значит, звони за четыре рупии, — разрешил мне непалец и отправил в будку.
Увы, до России я не дозвонился даже при таком раскладе.
Но Непал мне нравился даже несмотря на свою слабую развитость в технологическом плане. Не айфонами и не инстаграммами жили эти люди, не долларами и не витринами дорогих магазинов. Это ли главное? Нетронутая природа, почти полное отсутствие дорог, медленный транспорт. Рисовые поля, суровые горы, ручной труд… А непальцы! Насколько же общительней и гостеприимней они казались после вчерашних индусов.

— Намасте! — кричали дети, сложив свои маленькие ручки на груди и приветствуя меня.
Надо же, на хинди приветствие звучит так же: «Намасте», но ни разу — ни разу! — за два месяца жизни в Индии никто и никогда ко мне так не обращался.
И только в Непале я понял истинный смысл этого волшебного «Намасте». Это и приветствие, и благословение, и зачастую неподдельная радость от встречи.
Непальцы не спешили звать к себе в гости, держа уважительную дистанцию, но почти никогда не относились ко мне с безразличием, в отличие от индийцев.
Сняв какую-то дешевую гостиницу в Тансене и забросив туда вещи, я налегке отправился в полудневный пеший поход по окрестностям Тансена, являвшим собой не что иное, как Непал в миниатюре.
Колоритные персонажи — не хуже, чем в Индии, — населяли эти места.
Причесанные школьники, неизменно в форме и галстучках. На галстуке, ремне или в специальном бейджике на груди обязательно висела карточка с эмблемой школы и данными ученика. Символом образования в Непале служит еврейская шестиконечная звезда Давида, и я шутил про себя, что сионисты добрались и до Гималаев.
Пестро разодетые женщины, выполнявшие роль носильщиц, тащили за спиной большие корзины с хворостом или своих младенцев, завернутых в цветные тряпки. А мужики, в жилетках и сиреневых пилотках, приветствовали меня уважительно: «Намаскар!». Скоро и я раздобыл себе такую же сиреневую, чтобы немного походить на местного.
Читать дальше