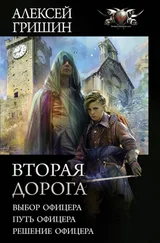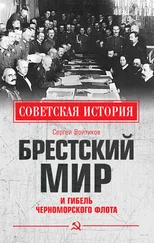Когда мы приближались к станции, то арестованный старшина, пристально, не отрывая глаз, смотря на стоящее в 4-х или 5-ти саженях от берега довольно больших размеров судно и указывая на него, обращаясь и матросам, не без некоторого страха, спрашивал: “Калмык? Калмык?” Судно это, бывший трехмачтовый транспорт, по негодности к плаванию, стояло на мертвых якорях. Кроме своего специального назначения — на нем помешался пороховой склад — оно служило также карцером: для нижних чинов и провинившихся туркмен, о чем им было хорошо известно. Через несколько дней старшины приехали просить начальника станции освободить товарища, коллективно ручаясь, что пленный будет возвращен; действительно, в скором времени персиянин был доставлен на станцию. [1043]
История двух пленных матросов. — Нападение туркмен на станцию в ночь на светлую заутреню. — Жестокость капитана 2-го ранга Сидорова. — Стоянка у персидского берега. — Прибытие на шхуну Кадыр-хана и туркменки Саалы. — Возвращение в Красноводск. — Семейство Сильванских. — Постановка памятника на русских могилах. — Смена полковника Столетова полковником Маркозовыми. — Избрание новой станции. — Чигишляр — и ее неудобства. — Изменившиеся к худшему наши отношения к туркменам. — Отплытие шхуны “Персиянин” к Чигишляру. — Приготовления к хивинскому походу 1873 года. — Причины последовавшей неудачи Красноводского отряда.
Еще в 1860-х годах, в бытность начальником станции капитана 1-го ранга Ратькова-Рожнова, освобождение пленных персиян сопровождалось довольно тяжелой процедурой; тем более стоил больших трудов и больших денег выкуп русского пленного. На станции для выкупа пленных имелась особенная сумма, образовывавшаяся из добровольных взносов служащих офицеров; с каждого не менее 3-х голландских червонцев в год; в экстренном же случае, когда сумма эта оказывалась недостаточною, устраивалась отдельная подписка. Как-то в начале 1860 года туркмены захватили на персидском берегу двух наших матросов: Потакеева и Иванова, и они сделались достоянием трех туркменских семейств; каждое из них старалось как можно более получить за них на свою долю; несколько раз переговоры о выкупе оканчивались соглашением сторон, и требуемая сумма привозилась; но оказывалось, что туркмены снова значительно увеличивали выкупную плату; таким образом, матросы наши находились в плену до 1867 года, исполняя при этом самые тяжелые работы. Бывший в это время ханом на станции Ана-Сан-Хан (Белая борода) предложил начальнику станции следующий способ для освобождения пленных: послать в аул, где они находятся, доверенного туркмена, которому поручить приобрести лучшую лошадь породы “аргамак”, отличающейся своей крепостью и быстротой бега, и, улучив удобный момент, предоставить ее для побега пленным, что и было приведено в исполнение, накануне того дня, когда Потакеева и Иванова решено уже было отправить со снаряжавшимся караваном в Хиву. Лошадь эта, на которой спаслись пленные, сделалась достоянием постовой, на станции, команды. В 1850 году, туркмены, осмелились даже сделать нападение на станцию. В ночь на Воскресение Христово, во время заутрени, они подошли к острову с моря на 40 больших лодках. Выскочив на берег, туркмены бросились к ярко освещенной церкви, как к единственному месту, [1044]обрисовывающемуся на фоне тихой ночи. Публика, молившаяся с наружной стороны церкви, в прилегающем к ней садике, увидя приближающихся вооруженных туркмен, с отчаянным криком, бросилась в церковь; туркмены в эту минуту, услышав перестрелку, быстро собравшейся постовой команды, бежали, оставив 4-х человек убитыми; но все-таки захватили с собой трех женщин.
Последствием этого нападения был упадок русского влияния, и в 1854 году решено было на общем собрании чинов станции сделать десант к аулу Гассан-Гули. Высадившийся десант сжег 28 туркменских лодок, забрал в плен несколько влиятельных туркмен, выкуп которых дорого обошелся туркменам. С тех пор пираты присмирели и никогда уже не осмеливались нападать на станцию. Бестактность, необдуманность в своих действиях, а также жестокость нрава некоторых лиц, случайно по делам службы соприкасавшихся с туркменами, — лиц, бывших не на высоте своего долга, а на низине грубого произвола, часто парализировали гуманные и корректные приемы других; вследствие этого получались нежелательные результаты в отношениях наших с племенем, видимо клонившимся к более тесному с нами сближению. Капитан 2-го ранга Сидоров, командуя пароходом “Урал”, в конце 1860 годов догнал туркменскую лодку, в которой находились 10 человек туркмен с тремя взятыми ими в плен персиянами. Сделав холостой выстрел из орудия, лодка в ту же минуту спустила парус и по знаку, сделанному на пароходе, подошла к его трапу. По приказанию Сидорова, туркмены с персиянами поднялись на палубу. На пароходе все служащие предполагали, что Сидоров, взявши на буксир лодку, отправится на станцию, где и предоставит на усмотрение начальства провинившихся туркмен: но немало были удивлены, когда он, оставив персиян на шхуне, приказал туркменам садиться на свою лодку; обрадованные таким благополучным исходом их поступка, туркмены, низко кланяясь Сидорову и лобызая его плечо, спешили спуститься на свою лодку. Сидоров в это время, сжимая губы и злорадно смотря на спускавшихся туркмен, загадочно улыбался; а когда лодка отошла несколько сажен от шхуны, скомандовал “полный ход” и, нагнав лодку, рассек ее килем парохода, при этом, к общему негодованию офицеров и команды, одних туркмен убил, а других, прежде чел исчезнуть под водой, долго еще заставил барахтаться и издавать отчаянные вопли. Сидоров впоследствии, даже не стесняясь, высказывал с некоторым еще неудовольствием, что за свой подвиг не получил награды… He георгия ли за храбрость думал он получить? — также не стесняясь, не без иронии, высказывали многие из служащих на станции офицеров… [1045]
Читать дальше

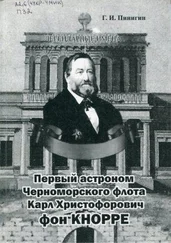
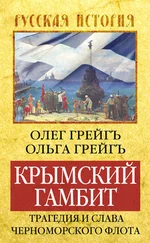
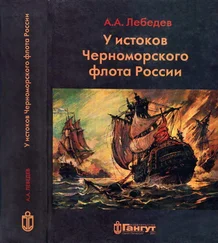
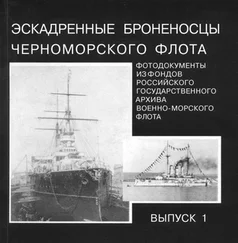

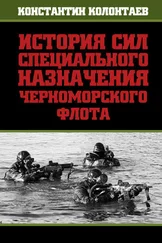
![Алексей Гришин - Вторая дорога - Выбор офицера. Путь офицера. Решение офицера [сборник litres]](/books/438728/aleksej-grishin-vtoraya-doroga-vybor-oficera-put-thumb.webp)