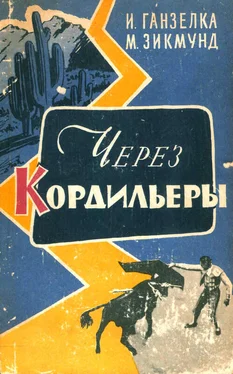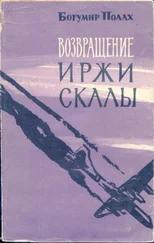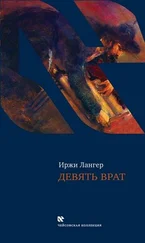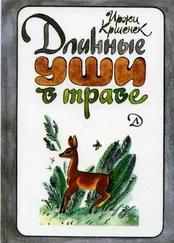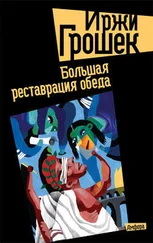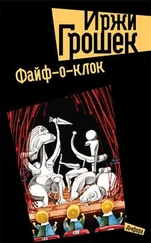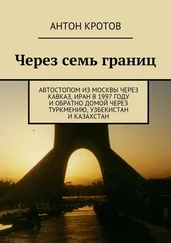— Подъемный трап мы сегодня спустить не можем! — кричат нам люди с площадки, а один из них прикладывает руки ко рту. — Придется вам забираться по веревочной лестнице!
Легко сказать, а как это делается? Никогда в жизни нам не приходилось стоять на веревочной лестнице. Растерянно смотрим друг на друга и на Авилу.
— Ловите трап за конец и лезьте. Руками хватайтесь только за боковой канат. Ноги заносите на деревянные перекладины с боков. Но руками за них не беритесь, — советует капитан.
Веревочная лестница мелькает над головой, нужно только ухватиться за нее и в конце концов выбраться на безопасное место, на твердую землю. Но лодка не ждет. Гребец подъезжает сбоку, подстерегает волну, а затем всей силой наваливается на весла. Конец лестницы, который секунду назад был еще далеко от рук и в метре над головой, сильно ударяется последней перекладиной в дно лодки и тут же снова взлетает вверх. Так это кажется в первую минуту, пока мы не убеждаемся, что лестница висит неподвижно, а лодка вместе с нами, как пробка, носится по волнам.
Гребец несколько раз повторяет один и тот же маневр, все мы приготовились схватить трап, как только он окажется досягаемым, но слишком силен прибой. Снова и снова лодка проваливается между волнами — как раз под трапом, а когда она оказывается на гребне, трап уже позади нас. Снова, еще раз!
Волна! Хватай трап! Он как раз перед новичком! Через секунду Мирек уже висит в воздухе, а лодка вместе с волной проваливается на 2 метра вниз. Быстрей вверх! И вот снова волна, и опять трап перед учеником, словно по заказу! Иржи карабкается за Миреком. Это, в самом деле, случайность? Гребец только улыбается.
Проходят еще секунды напряжения, пока над разбушевавшимся морем поднимается футляр с кинокамерой, которую юнга укрепил в петле троса. Затем переправляется аккумулятор, штатив, чемодан с запасом пленки, и только тогда наступает момент, когда мы можем крепко пожать руки людям с острова.
В эти полные напряжения минуты мы совсем забыли о том, что, собственно, уже стоим на гуано.
Вероятно, вам иногда случалось стирать с новой шляпы небольшую светлую кляксу, послав при этом всех воробьев ко всем чертям.
Именно эти кляксы, приумножаемые и ежедневно обновляемые миллионами птиц, более крупных и в значительной мере более производительных, чем воробьи, и стали предметом неослабного внимания гуановой компании.
На острове Чинча Сур, на южном из трех одноименных островов, мы вдруг очутились в прославленной золотой пыли перуанцев. Гуано всюду, куда ни глянь: на скалах и площадках острова, на тропинках, на столбах причала, в стоящих на якорях лодках, на крышах жилых домиков и складов, на одежде, на руках и лицах людей. Гуано припудрило их волосы и брови, гуано было у них даже под ногтями. Тучи гуано поднимались с острова при каждом дуновении ветра. На островах Чинча по гуано ходят, гуано дышат, на нем спят; здесь нечего даже и мечтать съесть кусок хлеба или выпить глоток воды, в котором бы не было гуано.
Почему же люди так гонятся за птичьим пометом? Почему они собирают его со скал до последнего кусочка? Почему они метелочками и щеточками выметают каждую щепотку его? Почему они живут в такой вони и грязи? Почему месяцами не высовывают носа с островов? Почему они птичье царство превратили в собственную тюрьму?
Ответ кроется в химическом анализе.
Свежее гуано содержит в среднем 27 процентов азота, 2 процента поташа и от 10 до 13 процентов фосфора. Мы уже говорили, что у искателей золотой пыли есть два постоянных и бескорыстных союзника: сухой воздух и тропическое солнце. На перуанских островах никогда не бывает дождя. Влажность воздуха в летние месяцы колеблется здесь в пределах от 60 до 70 процентов, в туманные месяцы зимнего периода поднимается в среднем до 75–85 процентов. Прежде чем гуано скопится под ногами производителей, оно теряет часть ценных питательных веществ, но, несмотря на это, в нем все еще остается от 13 до 15 процентов азота, целых 2 процента поташа и от 8 до 10 процентов фосфора.
Научными анализами установлено, что перуанское гуано в том состоянии, в каком его употребляют для удобрения тростниковых, хлопковых и льняных плантаций, в тридцать три раза действеннее, чем такое же количество обычного навоза, взятого из хлева. Поэтому перуанское земледелие, унаследовавшее сравнительно бедную почву, без гуано оказалось бы бессильным и бесплодным. Экономика сельскохозяйственного района вокруг Арекипы, второго по величине города Перу, на протяжении всей истории зависела от гуано.
Читать дальше