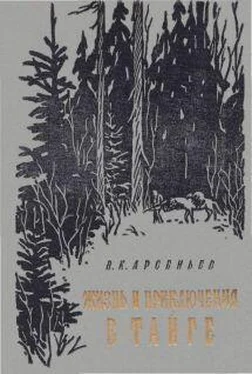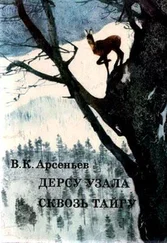ворку: «Гольд написан Вами отлично, — пишет он, — для меня он более живая фигура, чем «Следопыт», более художественная» [84]. Смысл этих слов вполне понятен: Горький указывает на иное качество образа Дерсу, делающее для него этот образ живее, а потому и «художественнее» соответственного образа американского романиста. Алексей Максимович отчетливо понял реальную основу образа Дерсу, что и подчеркнул своим
противопоставлением. Куперовского «Следопыта» как таково го, то есть как реального человека, которого звали Натаниэлем и который совершил все те поступки, которые описаны в романе, и сказал все те слова, которые вложил в его уста автор, никогда не существовало. То, что рассказывает о своем герое Купер, не адекватно подлинной действительности, но является художественным обобщением ее. Не было именно этого «Следопыта», но существовал кто-то похожий на него, существовали другие, сходные с ним по характеру и образу жизни люди, которые и послужили писателю материалом для создания того привлекательного образа, которым он обессмертил свое имя. Но Дерсу Арсеньева — фигура не выдуманная, а конкретная; в повествовании о нем нет вымысла и фантастики; речи Дерсу — его подлинные речи и совершенные им поступки — действительно существовавшие факты. Горький, кстати, никогда не именовал Арсеньева «русским Фенимором Купером», как, якобы по Горькому, иногда «величают» писателя. Наоборот, Горький очень настойчиво подчеркивает документальность книг В. К. Арсеньева: их «несомненную и крупную» «научную ценность»; он был восхищен и увлечен не какими-то беллетристическими качествами книг Арсеньева, по их живой правдой и «изобразительной силой» их автора. Дерсу написан с таким мастерством и силой, что производит впечатление обобщенного художественного образа. Поэтому в мировой литературе образ Дерсу действительно занял место рядом с куперовским «Следопытом», значительно превосходя его, однако, жизненной правдой изображения. Оба эти образа обладают огромной впечатляющей силой, оба служат замечательными художественными обобщениями, но Купер достиг этой цели средствами писателя-романиста, Арсеньев — средствами писателя-этнографа. И в этом сущность того исключительного — единственного и неповторимого — положения, какое занимает в этнографической литературе В. К. Арсеньев.
Нет никаких оснований и для романтической стилизации самого Арсеньева, которая, к сожалению, нередко встречается в различных критических очерках и мемуарной литературе о нем. Таким мечтателем-романтиком изображает В. К. Арсеньева писатель В. Лидин, книги же его характеризует как «романтические мечты о тайге». В нарочито романтической интерпретации воспроизводит он и свою беседу с путешественником. «Видите ли, — сказал В. К. Арсеньев, — мне в моей работе, то есть работе писателя, всегда помогало то, что я по обязанности должен был вести дневник экспедиции. А дневник, — он слегка улыбнулся, как бы извиняясь в слабости своей романтической натуры, — это и облака, и природа, и облик тайги… ведь, в ней каждое растение особенное. Ну, а из всех этих наблюдений потом при обработке оказывается сложилась книга» [85].
Таким образом, оказывается (по прямому смыслу данного воспоминания), что первое и основное условие работы каждого путешественника — ведение путевого дневника — являлось для Арсеньева лишь вынужденной необходимостью, а разносторонность этого дневника — романтической «слабостью», которой автор его даже немного «стыдился». Так искажается реальный облик писателя-путешественника. Глубоко неправильно суждение об его книгах, как «романтических мечтаниях о тайге».
В. К. Арсеньев никогда не был поклонником «таежного экзотизма», он сумел как никто изобразить и передать суровую и дикую красоту тайги, ее величественное и пленительное обаяние, но «мечтал» он и о другом: он неизменно мечтал о победе над ее неприступностью и суровостью, мечтал о будущем оживлении края и о приобщении огромных таежных районов и их обитателей к общей культуре страны.
Романтические стилизации облика писателя-путешественника отражаются и на оценке его произведений, которые также представляются вследствие этого в ложном свете. Впрочем, в последнее время как будто уже вполне прочно устанавливается более верный взгляд на творчество В. К. Арсеньева, вытекающий из правильно понятой оценки, данной А. М. Горьким. Примером таких суждений можно привести рецензии и очерки Ю. Шестаковой. В одном из них очень верно и тонко отмечено «ощущение тесной связи с автором», которое всегда «неизбежно возникает при чтении книг Арсеньева». «Это ощущение — г, самом материале арсеньевских книг, в его строгой и доступной форме повествования, не оставляющей места для вымысла» [86].
Читать дальше