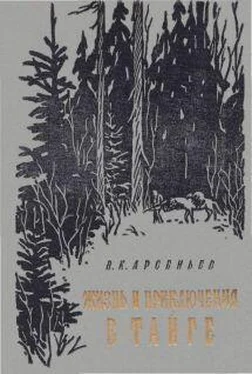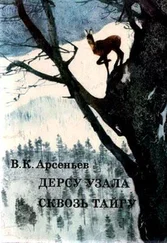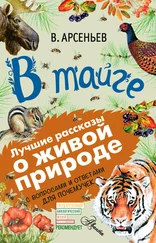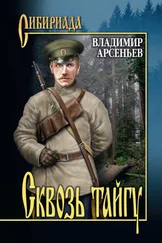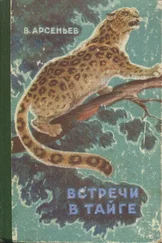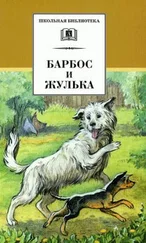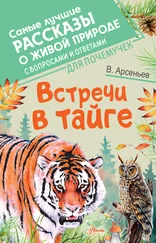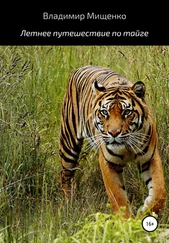В. К. Арсеньев не ограничивается только описанием своих впечатлений от первой встречи и сделанных во время нее наблюдений. Портрет Дерсу рисуется им на протяжении почти всей книги, точнее сказать на протяжении двух книг. Каждая новая деталь, каждый новый факт дополняют наше представление о нем новыми чертами или углубляют уже известные. Сцена же прощания с Дерсу, когда он уходит, озаренный лучами восходящего солнца (I, стр. 59), воспринимается как некий апофеоз Дерсу, олицетворение светлого солнечного начала в его образе. Эта картина принадлежит к крупнейшим художественным удачам писателя.
Анализ портретного мастерства Арсеньева можно было бы иллюстрировать многочисленными примерами, остановимся на одном, особенно характерном для его писательской манеры. В девятнадцатой главе первого тома В. К. Арсеньев описывает содержание котомки Дерсу: «Чего тут только не было: порожний мешок из-под муки, две старенькие рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья, пороховница, свинец, коробочка с капсюлями, полотнище палатки, козья шкура, кусок кирпичного чая вместе с листовым табаком, банка из-под консервов, шило, маленький топор, жестяная коробочка, спички, кремень, огниво, трут, смолье для растолок, береста, еще какая-то баночка, кружка, маленький котелок, туземный кривой ножик, жильные нитки, две иголки, пустая катушка, какая-то сухая трава, кабанья желчь, зубы и когти медведя, копытца кабарги и рысьи кости, нанизанные на веревочку, две медные пуговицы и множество разного хлама. Среди этих вещей я узнал такие, которые я раньше бросал по дороге. Очевидно, все это он подбирал и нес с собой» (I, стр. 229). Как будто только одно сухое перечисление разных предметов, а между тем это так сделано, что вызывает в читателе и улыбку, и умиление, и сострадание. Это описание — четкий и точный этнографический документ, и вместе с тем оно является яркой и выразительной художественной картиной, нарисованной уверенной кистью превосходного мастера.
5
Приведенные в предыдущих главах наблюдения и замечания, конечно, не охватывают всех сторон таланта В. К. Арсеньева и особенностей его стиля; такая задача должна составить предмет особого специального исследования. Данные же замечания имели целью показать ряд ярких и характерные примеров, как органически сочетались в творчестве В. К. Арсеньева ученый-натуралист и художник. Выдающийся писатель, мастер художественного слова, В. К. Арсеньев прежде всего превосходный и тонкий наблюдатель естествоиспытатель, сочетающий внимательность и зоркость ученого с чуткостью художника. Поэтому совершенно очевидно, как глубоко неправильно отнесение арсеньевских «Путешествий» к литературно-художественным или беллетристическим произведениям. Книги В. К. Арсеньева, так же как и книги его великого предшественника Н. М. Пржевальского, являются безусловно памятниками научной литературы и как таковые должны рассматриваться и изучаться.
«Путешествия» В. К. Арсеньева уже потому не могут рассматриваться как произведения исключительно (или хотя бы даже преимущественно) литературно-художественные и беллетристические, что в них нет основного признака беллетристической литературы — свободного вымысла. Следует глубже вдуматься в то определение таланта В. К. Арсеньева, которое сделал A. М. Горький. Как нужно понимать его замечание, что B. К. Арсеньеву «удалось объединить в себе Брэма и Купера»? Не означает ли названное в этой связи имя знаменитого американского романиста подчеркивания в творчестве Арсеньева именно беллетристического начала. Нам кажется, для такого вывода нет достаточных оснований. Брэм упомянут Горьким как один из самых замечательных изобразителей мира природы, но А. М. Горький не сумел найти аналогичное имя писателя-этнографа. Действительно, среди этнографов всего мира нельзя назвать писателя, который в этнографической литературе занимал бы такое же место, как Брэм в естественно-исторической. Таких писателей нет. Поэтому Горький привел имя писателя, в романах которого большое место занимают этнографические моменты. Имя Купера естественно возникало рядом с именем Арсеньева и потому, что вполне закономерно сближались и имена основных героев повествований того и другого: Дерсу Узала у Арсеньева и Натаниэль Бумбо («Следопыт») у Купера. Да Арсеньев и сам назвал это имя, характеризуя Дерсу. Но Горький тут же делает знаменательную ого
Читать дальше