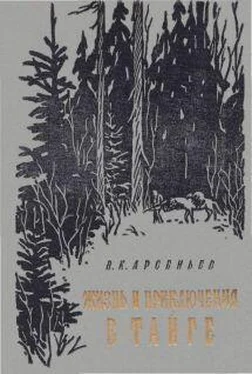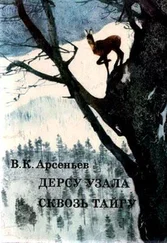Подобно Пржевальскому, Арсеньев стремился уловить и передать разнообразный мир звуков в природе, что придает его пейзажам особую прелесть, делая их не только более оживленными, но и музыкальными. О своем, особом и повышенном внимании к звукам он сам неоднократно упоминает: «Я сел на камень и стал вслушиваться в тихие, как шопот, звуки, которыми всегда наполняется тайга в час сумерек» (II, стр. 132); «чем больше сгущается мрак, тем больше напрягаешь слух, и тогда улавливаешь такие звуки, которых днем обыкновенно не замечаешь: слышится подавленный вздох, сдержанный шопот и шорохи бесчисленных растений» (IV, стр. 133); звуковыми эффектами он пользуется иногда как концовками, завершающими какой-либо рассказ. Такой звуковой картинкой заканчивается памятная глава о встрече Дерсу с тигром и речь, с которой обратился он к грозному хищнику: «Через несколько минут в балагане уже воцарилась тишина. Слышно было только мерное дыханье спящих да треск горящих сучьев в костре. С поля доносилось пофыркиванье лошадей, в лесу ухал филин и где-то, далеко-далеко, кричал сыч-воробей» (I, стр. 226).
Однако не следует думать, что изображения звуков нужны ему лишь как художественный прием, — так же как и у Пржевальского, это напряженное внимание к звуковым элементам пейзажа дает возможность описать и раскрыть некоторые характерные моменты дальневосточной природы. Таково описание зимних звуков в уссурийской тайге: «В такие тихие дни воздух делается особенно звукопроницаемым. Тогда бывают слышны звонкие щелканья озябших деревьев, бег какого-то зверька по колоднику, тихий шум падающего на землю снега и шелест зябликов, лазающих по коре сухостоя» (III, стр. 186–187). В уменье слышать и передавать звуки Арсеньев вполне сближается с Пржевальским, — и у них обоих могут учиться точности и четкости в изображении явлений природы и натуралист-биолог и писатель-беллетрист, стремящийся передать в своих произведениях разнообразные особенности края.
Большого мастерства достигает В. К. Арсеньев в передаче картин ночной тишины и связанных с ними своих переживаний. Для изображения таких моментов он умеет находить четкие формулировки и точно чеканные образы. Фразы его в таких случаях сжаты и лаконичны, и весь стиль приобретает какую-то прозрачную ясность. «Среди глубокой тишины, царившей в природе, я слышал биение собственного сердца. На темной поверхности воды появились круги. Какая-то рыба хватала ртом воздух». (IV, стр. 72). Арсеньева иногда упрекали в анимизации природы, усматривая в этом проявление какого-то будто бы свойственного ему мистицизма. Один из критиков в качестве примера такого «мистического отношения» к природе приводил арсеньевское изображение пантеры: она «отлично понимает, что со стороны головы ее тело, прижатое к суку, менее заметно, чем сбоку» [82]. Нет надобности спорить с критиком, узревшим «мистицизм» в обычном для натуралистической литературы приеме описания. Но самый прием такого внесения человеческих чувств и настроений в природу очень характерен для Арсеньева; можно даже сказать, что это один из самых любимых приемов его. У него «деревья грезят предрассветным оном» (III, стр. 184); каменная голова «как будто всматривается в мертвящую тишину леса» (IV, стр. 136); камни «ропотом выражают свой протест» (III, стр. 105); кедры «словно жалуются на свою судьбу» (II, стр. 58); вода «с шумом бежит по долине, словно радуясь, что вырвалась из-под земли на свободу» (I, стр. 141); туманы «словно боятся солнца и стараются спрятаться в глубокие лощины» (I, стр. 193); дуб «сопротивляется осенним холодам и ни за что не хочет сбрасывать свой летний наряд» (IV, стр. 136). «Высоко на небе почти в самом зените стояла луна, обращенная последней четвертью к востоку. Она была такая посеребренная и имела такой ликующий вид, словно улыбалась солнцу, которое ей было видно с небесной высоты и которое для обитателей земли еще скрывалось за горизонтом» (III, стр. 182); «я поднял голову и при ярком пламени костра увидел кору на лиственице. Деревянное человеческое лицо казалось ожило и как будто наблюдало за нами. В течение многих лет бурхан этот исправно нес свои обязанности на окраине балагана и теперь точно был недоволен дерзостью пришедшего» (IV, стр. 32). Примеры такого типа сравнений, уподоблений, олицетворений и оживлений изобильно рассыпаны на страницах книг Арсеньева, но, конечно, нельзя усматривать в этом излюбленном многими писателями литературном приеме проявление какого-либо мистического миросозерцания автора. Такой прием неоднократно встречается и у Пржевальского: «громадные горные хребты» Тибета представляются ему «великанами», которые «стерегут труднодоступный мир заоблачных нагорий», «неприветливых для человека» и «еще неведомых для науки» [83]. Приведу еще пример, относящийся как раз к изображениям дальневосточных пейзажей и заимствуемый из произведений писателя, которого едва ли кто решится упрекать в мистическом восприятии жизни: «… зеленели луга, сады. Пахло багульником, от которого сплошь посинели сопки. Только успела развернуться в лист черемуха, как брызнули за ней липкой глянцевитой листвой тополя, осокори. И вот уже лопнули тверденькие почки берез, потом дуба, распустились дикая яблоня, шиповник и боярка. Долго не верил в весну грецкий орех, но вдруг не выдержал, и его пышная сдвоенная листва на прямых длинных серо-зеленых ветках начала покрывать собой все; а его догоняли уже бархатное дерево, а там оживали плети и усики дикого винограда, и кишмиша, и лимонника…» Это прекрасное описание весеннего расцветания дальневосточной природы принадлежит А. А. Фадееву (см. седьмую главу четвертой части романа «Последний из Удэге»). Причем у Фадеева отсутствуют даже всякого рода соединительные члены предложения («словно», «точно», «как будто», «как бы») или слова-оговорки («казалось», «представлялось»), которыми почти всегда сопровождаются у Арсеньева анимизирующие сравнения.
Читать дальше