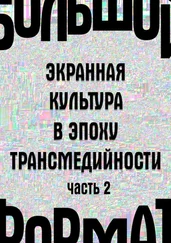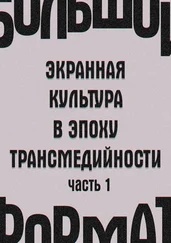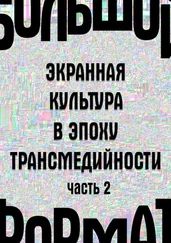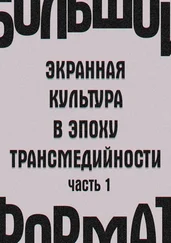В наши дни люди суть inaequales. Если же, однако, рассматривать их естественным образом, не вдаваясь в рефлексию по поводу этого факта, то выясняется, что изначально они были aequales. […] Когда я говорю: homines а natura sont liberi, то подразумевается, что они суть aequales, ни один не имеет над другим Imperium или dominium. Ибо dominium и Imperium возникают ex pacto. От природы люди живут ex communione. […] Libertas состоит, следовательно, в том, что я могу делать, что захочу, possum facere, quod placet. He имеет места никакой lex humana, который мог бы ограничить мое desiderium. Мы не хотим провозгласить свободу человека от lex divina [135] Gundling: Discours, S. 63.
.
Почти тогда же Кристиан Вольф в своем Jus naturae отождествляет естественное состояние человека с «Status libertatis»:
Quia homo in statu originario liber est, status autem libertatis est, in quo homini libertas competit; status originarius status libertatis est. Non tarnen cum statu libertatis prorsus idem est: libertas enim confert liberum omnium jurium exercitium, independens scilicet a voluntate alterius. Juris quippe exercitium in hoc consistit, ut facias, quod jure tuo facere potes. Per ipsa vero jura ista determinatur status originarius [136] Wolff: Werke II, 17, S. 88.
.
30
31
32
Однако наряду с этой традицией, провозглашающей «Status naturalis» природным и разумным основанием естественного права, в философии Просвещения еще долгое время сохраняет влияние и традиция, идущая от Томаса Гоббса, который противопоставлял естественное состояние и «Status civilis», видя в первом «bellum omnium contra omnes». Так продолжается до тех пор, пока эти отрицательные коннотации не начали исчезать в результате распространения идиллически-идеализирующего толкования Руссо. В плане истории формирования понятий постепенное утверждение принципа естественного права находит выражение во все большем распространении таких понятий как «права человека» [137] Аделунг (в своем словаре) в томе третьем 1798 года этого понятия еще не употребляет, но Кампе (Wörterbuch, Bd. 3, S. 267) дает в 1809 году следующее определение: «Как разумное и свободное существо каждый человек обладает естественными правами». – Grimm (Wörterbuch, Bd. 12, Sp. 2064) приводит ряд свидетельств, относящихся к последней трети XVIII века. – В дискуссии о прусском религиозном эдикте 1788 года права человека выступают уже в качестве общепринятого аргумента. Ср. Что есть свобода совести? (Was ist Gewissenfreiheit?), S. 18 u. ö.; [Villaume: ] Freimüthige Betrachtungen, S. 31 (Размышления свободомыслящего); Schreiben an den Fürsten von *** (Письмо князю***), S. 8; [Riem.] Ueber Aufklärung (О просвещении), S. 7, 8, 34; Apologie des Königlich-Preußischen Religions-Edicts (Апология прусского королевского указа о религии), S. V–VI, 8, 67, 70, 72, 73, 77, 97, 101, 125, 138, 143; [Schütz: ] Ueber Wahrheit und Irrthum (Об истине и заблуждении), S. 57; Preßfreiheit, Satire, Religionsedikt, Aufklärung (Свобода печати, сатира, религиозный указ, Просвещение), S. 27.
и права народов. «Права человечества» становятся с этого времени, как писал в 1784 году Иоганн Август Шлетвейн, «единственно истинным основанием всех законов, порядков и конституций» [138] Schlettwein: Rechte der Menschheit, S. 121 ff.
.
Важное следствие выводит отсюда, например, Леопольд Фридрих Фриденсдорф, который пишет: «Естественная свобода человека есть высшее благо, которым он обладает. Она коренится в его существе» [139] Fredersdorff: System des Rechts, S. 153.
.
Стараясь проследить это развитие, мы продвинулись далеко в последнюю треть XVIII века, чтобы показать, что устанавливаемое Гецем отношение между свободой и своим Я определяется актуальным контекстом эпохи создания драмы, т. е. представляет собою пример модернистской проблематики, спроецированной на эпоху исторического Геца фон Берлихингена. В жизнеописании Геца, все же служившем для Гете главным историческим источником, понятие свободы вообще не встречается [140] Само слово употребляется только однажды, в форме косвенной речи, при передаче требований восставших крестьян (Berlichingen: Lebens-Beschreibung, S. 209): «И стало известно, что крестьяне, за ним записанные, пришли с посланием и говорили, что они хотят напомнить, что воюют за свои свободы».
. Лишь сознание укорененности свободы в существе человека, твердая уверенность в том, что человек ею искони обладает, может объяснить вдохновенную апелляцию Геца к своему личному Я, когда он измеряет « достоинство свободного рыцаря» [141] Выделено Д. К.
исключительно его верностью самому себе и, значит, своей свободе.
Но если свобода коренится так глубоко в человеке, если роль ее столь велика, то понятно, что ее утрата не может не ставить под угрозу самое идентичность личности. Отказаться от своей свободы, как то делает, по мнению Геца, Вейслинген, принимая сторону епископа Бамбергского, это означает отказаться и от своей индивидуальности, в конечном счете, ее уничтожить. Свободная личность превращается всего лишь в «орудие» [142] Götz, 1, 3; FA 1, 4; S. 299.
– вот что происходит, когда Вейслинген «принижает себя до уровня вассала» [143] Ibid., S. 297.
и становится «придворным шаркуном при своенравном и завистливом попе» [144] Ibid., S. 298.
. Многократные переходы Вейслингена из одного лагеря в другой находят отражение в диалектике утраты и обретения личной идентичности. Его возвращение в стан Геца имеет характер обретения им своего собственного Я, возврата к своей изначальной свободе:
Читать дальше