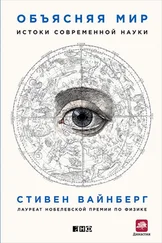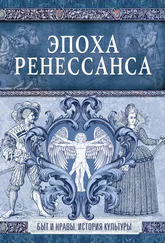Теперь будет понятно, почему я утверждаю, что если бы история политической теории писалась как история идеологий, то мы могли бы яснее видеть связь между политической теорией и практикой. Когда мы восстанавливаем нормативный словарь, пригодный для описания политического поведения какого-либо деятеля, мы одновременно указываем на один из факторов, ограничивающих его поведение. Чтобы объяснить, почему деятель поступает определенным образом, нам следует сослаться на этот словарь, поскольку он заметно обусловливает его действия. А это, в свою очередь, означает, что если бы мы сосредоточились на изучении таких словарей, мы могли бы точнее показать, как объяснение политического поведения зависит от изучения политической мысли.
Однако я предлагаю сосредоточиться на изучении идеологии главным образом потому, что это позволило бы нам вернуться к классическим текстам, имея более ясное понимание того, чего от них можно ожидать. Изучение контекста любой крупной работы по политической философии не сводится только к приобретению дополнительной информации относительно ее происхождения; оно должно снабдить нас, как я постараюсь показать, способом проникновения в замысел автора, которое будет глубже того, что мы надеемся получить от многократного перечитывания текста, следуя типичным рекомендациям представителей «текстуалистского» подхода [6] См. в связи с этим предписанием: Plamenatz 1963, vol. I, p. X.
.
Что же именно мой подход позволяет нам понять в классических текстах, чего мы не можем понять, просто прочитав их? В общем, я думаю, что он позволяет нам представить, чем занимались авторы, когда писали их. Мы можем начать видеть не только их аргументы, но и вопросы, которые они поднимали и на которые старались найти ответ, а также в какой мере они принимали и приветствовали, оспаривали и отвергали или, возможно, полемически игнорировали расхожие допущения и конвенции политической дискуссии. Мы не можем рассчитывать, что достигнем этого уровня понимания, если будем изучать только сами тексты. Чтобы видеть в них ответы на конкретные вопросы, нам нужно знать кое-что об обществе, в котором они были написаны. А чтобы понимать, кому адресованы и насколько сильны их аргументы, нам нужно иметь какое-то представление о политическом словаре той эпохи. Кроме того, нам определенно необходимо достичь этого уровня понимания, если мы должны убедительно интерпретировать классические тексты. Ведь понимать, на какие вопросы реагирует автор, что он делает с доступными ему понятиями, – значит понимать некоторые из его базовых намерений и, следовательно, стараться обнаружить, что именно он хотел сказать тем, что сказал – или не сумел сказать. Когда мы, таким образом, пытаемся вписать текст в соответствующий контекст, мы не просто обеспечиваем нашу интерпретацию историческим «бэкграундом», мы непосредственно занимаемся самой интерпретацией.
В виде краткого пояснения, что я имею в виду, поразмышляем о возможном значении того факта, что Джон Локк в своих «Двух трактатах о правлении» никогда не обращается к древней английской конституции, якобы имевшей обязывающую силу обычая. Исследование того, как мыслилось в то время понятие политического обязательства, показывает, что его современники должны были видеть в этом серьезный недостаток. Это открытие может подвести нас к вопросу о том, что делает Локк в этой части своего изложения. Нам приходится отвечать, что он отвергает или оставляет без внимания одну из широко распространенных и окруженных почетом форм политического рассуждения, существоваших в то время. Это, в свою очередь, может заставить нас спросить, а не хотел ли он сказать своим первым читателям, что считает притязания на силу обычая недостойными его внимания и что, таким образом, своим молчанием он выражает свое отношение к теории. Конечно, этот пример слишком схематичен, но достаточен для того, чтобы прояснить две вещи, которые я хочу сказать: едва ли можно говорить о том, что мы поняли замысел Локка, пока мы не изучили его намерения; но мы едва ли можем надеяться достичь соответствующего понимания, пока мы не готовы сосредоточиться не просто на его тексте, но также на более широком контексте, внутри которого создавался текст.
Читатель, возможно, поинтересуется, могу ли я рассказать о новых находках, ставших результатом применения этой методологии. Я хотел бы сказать о двух из них. В первом томе я старался подчеркнуть, в насколько большой степени словарь моральной и политической мысли Ренессанса основан на стоических источниках. Была проведена большая работа – например, Гарэном – по изучению платоновских начал ренессансной политической философии. А недавно был сделан сильный акцент – в особенности Бароном и Пококом – на вкладе аристотелевского учения в формирование «гражданского» гуманизма. Но я не думаю, что масштаб влияния стоических ценностей и убеждений на политических теоретиков ренессансной Италии и вообще Европы раннего Нового времени был оценен в полной мере. Я также не думаю, что было достаточно осознано, насколько признание этого факта может, среди прочего, изменить наше представление об отношениях Макиавелли со своими предшественниками и, следовательно, наше понимание его целей и намерений как политического теоретика. Во втором томе я постарался в похожем ключе раскрыть источники словаря, характерного для политической мысли Реформации. Я старался особенно подчеркнуть, в какой парадоксальной степени лютеране и радикальные кальвинисты полагались на систему понятий, происходящую из изучения римского права и моральной философии схоластики. Огромная литература была посвящена в последние годы формированию «кальвинистской теории революции». Однако я утверждаю, что, строго говоря, таковой не существует. И хотя не вызывает сомнения, что революционерами Европы раннего Нового времени были в основном истовые кальвинисты, я думаю, что не получил достаточного признания тот факт, что развиваемые ими теории почти целиком формулировались на языке права и морали, позаимствованном у их католических противников.
Читать дальше