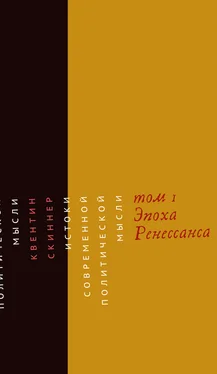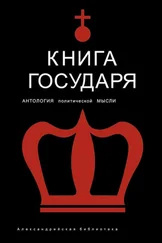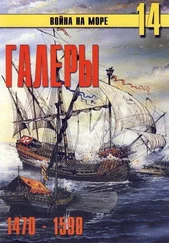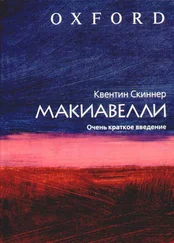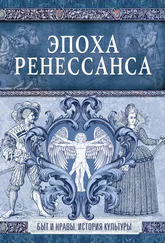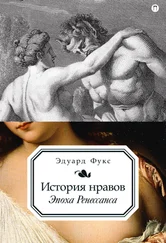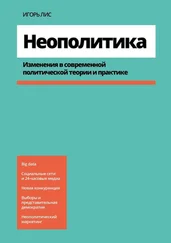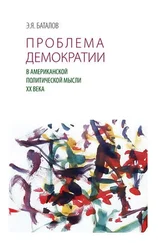. В любом случае, если мой метод чего-нибудь стоит, я надеюсь, что это проявится, когда я перейду к практической реализации своих предписаний непосредственно в самой книге. Но, возможно, будет полезно совсем кратко обозначить суть вопроса, сопоставив мой подход с более традиционным методом изучения истории политических идей – тем, который применял, в частности, профессор Менар. Он относится к этому предмету как к истории так называемых классических текстов, создавая одну за другой главы, посвященные важнейшим работам Макиавелли, Эразма, Мора, Лютера, Кальвина и других крупных фигур. Я же, напротив, стараюсь не слишком сосредоточиваться на ведущих теоретиках, но, вместо этого, обращать внимание на более широкую социальную и интеллектуальную среду, из которой выросли эти работы. Я начинаю с рассуждения о том, что считаю наиболее характерными особенностями обществ, в которых и для которых они создавали свои труды. Ибо, по моему мнению, сама политическая жизнь ставит перед политическим теоретиком основные проблемы, заставляя выглядеть проблематичным определенный круг ситуаций и превращая соответствующий круг вопросов в главный предмет дискуссии. Однако я не хочу сказать, что воспринимаю эту идеологическую надстройку как прямое следствие социального базиса. Я считаю, что не менее важно принимать в расчет интеллектуальный контекст, в котором задумывались основные тексты – контекст более ранних сочинений, унаследованных установок в отношении политического общества и гораздо менее долговечные воздействия на социальную и политическую мысль. Очевидно, что природа и границы нормативного словаря, доступного в любое время, помогут также определить, как именно отбираются и обсуждаются определенные вопросы. Таким образом, я постарался написать не столько историю классических текстов, сколько историю идеологий, поскольку моя цель состояла в том, чтобы выстроить общую рамку, внутри которой можно затем располагать сочинения более видных теоретиков.
Можно спросить, почему я применил такой довольно непростой подход. Мне хотелось бы завершить эти предварительные замечания наброском ответа на этот вопрос. Меня потому не устраивает традиционный «текстуалистский» метод, что его представители, притязая на написание истории политической мысли, редко знакомили нас с подлинной историей. Одним из общих мест современной историографии по праву стала идея, что если мы хотим понять более ранние общества, нам нужно восстановить их ментальность и по возможности проникнуться ею, насколько это возможно. Однако трудно понять, как достичь такого исторического понимания, если, изучая политические идеи, мы будем продолжать сосредоточивать наше основное внимание на тех, кто рассуждал о проблемах политической жизни на таком уровне абстракции и интеллектуального мастерства, который был недосягаем для их современников. Если же, с другой стороны, мы постараемся вписать эти классические тексты в соответствующий идеологический контекст, вероятно, мы сможем создать более реалистическую картину того, как функционировало политическое мышление во всех его разнообразных формах в более ранние периоды. Таким образом, я заявляю, что достоинство моего подхода состоит в том, что при удачном применении он мог бы обещать нам историю политической теории, которая будет иметь подлинно исторический характер.
Освоение этого подхода могло бы помочь нам прояснить некоторые отношения между политической теорией и практикой. Часто отмечалось, что историки политики в стремлении объяснить политическое поведение обычно приписывают достаточно маргинальную роль политическим идеям и принципам. И очевидно, что пока историки политической теории продолжат думать, что их главная задача состоит в интерпретации классических текстов, будет трудно установить связь между политическими теориями и политической жизнью. Но если бы вместо этого они считали себя исследователями идеологий, то стало бы возможно продемонстрировать, что объяснение политического поведения зависит от изучения политических идей и принципов и что оно окажется недостаточным без обращения к ним.
Природа взаимодействия такого рода, как я надеюсь, прояснится по ходу этой книги. Но то, что я имею в виду, вполне можно передать и в общих чертах, если мы возьмем политического деятеля, стремящегося участвовать в некотором действии, которое он желает, по выражению Макса Вебера, представить в качестве легитимного. Можно сказать, что такой деятель имеет серьезный повод позаботиться о том, чтобы его поведение было правдоподобно описано посредством нормативного словаря, который уже принят в этом обществе и может одновременно легитимировать и описывать то, что тот сделал. Может показаться – и такого мнения придерживаются многие историки политики, – что между идеологией и политическим действием существует связь чисто инструментального свойства [5] См. Skinner 1974a, где была сделана попытка подробно задокументировать один случай такого допущения.
. У деятеля есть проект, который он хотел бы легитимировать; следовательно, он исповедует только те принципы, которые лучше всего подходят для описания того, что он делает, в морально приемлемых терминах; и поскольку выбор этих принципов связан с его поведением совершенно ex post facto (задним числом, ретроспективно), кажется, нет никакой необходимости объяснять его действие, ссылаясь на какие бы то ни было принципы, которые ему доводилось исповедовать. Однако можно доказать, что здесь мы имеем дело с недопониманием роли нормативного словаря, которым пользуется любое общество для описания и оценки своей политической жизни. Возьмем, к примеру, деятеля, который хочет сказать, что совершенное им действие было достойным. Несомненно, описание такого действия будет одновременно и его рекомендацией. И, как показывает Макиавелли, диапазон действий такого рода, которые можно подвести под это определение, если проявить немного мастерства, может быть неожиданно широк. Но это определение, очевидно, нельзя применять безоговорочно к любым макиавеллевским действиям, но только к тем, о которых можно утверждать с достаточной уверенностью, что они соответствуют заранее данным критериям применимости. Из этого следует, что любой человек, стремящийся к тому, чтобы его поведение расценивалось как поведение достойного человека, обнаружит, что его диапазон ограничен действиями определенного рода. Поэтому проблема, которая встает перед тем, кто желает легитимировать свои действия и одновременно добиться того, что он хочет, не может быть просто инструментальной проблемой приспособления нормативного языка к его проекту. Это отчасти и проблема приспособления его проектов к имеющемуся нормативному словарю.
Читать дальше