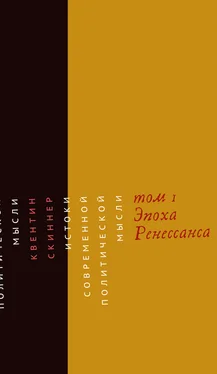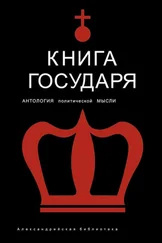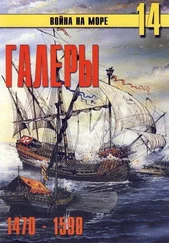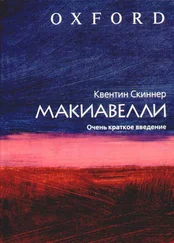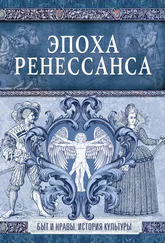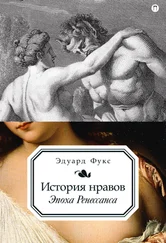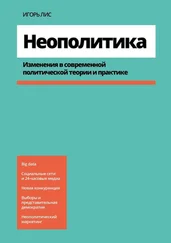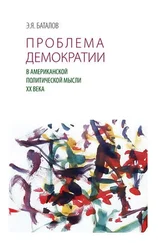В двух важных исследованиях флорентийской политической мысли XIV в. прослеживается путь, который прошел термин «свобода» ( liberty ), чтобы начать обозначать одновременно политическую независимость и республиканское самоуправление. Изучая флорентийскую дипломатическую переписку, относящуюся ко вторжению Генриха VII в 1310 г., когда флорентийцы возглавили оппозицию императору, провозгласив «свободу Тосканы», Буено де Мескита установил, что их первейшей заботой было «свержение ярма рабской зависимости от германской власти» и подтверждение права на самоуправление (Bueno de Mesquita 1965, p. 305). Сходным образом Рубинштейн показал, что в течение XIV в. понятия libertas и libertà стали использоваться «почти как технические термины флорентийской политики и дипломатии» и что они почти всегда служили для выражения все тех же идей независимости и самоуправления (Rubinstein 1952, p. 29). Этот отчетливый анализ «свободы» не был изобретением треченто . Мы можем увидеть, как к тем же идеалам обращаются уже в 1177 г. в ходе самых первых переговоров между итальянскими городами, императором и папой. Они последовали за решающим поражением армии Барбароссы от войск Ломбардской лиги, произошедшим годом ранее. Согласно рассказу, содержащемуся в «Анналах» Ромуальда Гварны, речь послов Феррары, произнесенная ими во время итоговой дискуссии, включала в себя вдохновенные декламации «о чести и свободе Италии» вместе с заверениями о том, что граждане Regnum «предпочтут славную смерть со свободой, чем жалкую жизнь в рабстве». Послы ясно дали понять, что, обращаясь к идеалу свободы, они имеют в виду две основные идеи. Во-первых, под свободой они подразумевали свою независимость от императора, ибо настаивали на том, что «мы согласимся на мир, предлагаемый императором», только «пока наша свобода остается неприкосновенной». И во-вторых, под свободой имелось в виду право сохранять существующие формы управления, поскольку они, «не желая отказывать императору ни в одной из его древних юрисдикций», обязаны настаивать на том, что не могут расстаться со своей свободой, которую унаследовали от своих предков, кроме как вместе с самой жизнью (Romoaldo of Salerno 1866, pp. 444–445).
Однако в этом утверждении libertas вопреки империи было, несомненно, одно слабое место: города не могли придать ему никакой законной силы. Источником этого затруднения является тот факт, что с конца XI в., когда в университетах Равенны и Болоньи было возобновлено изучение римского права, римский гражданский кодекс начал использоваться в качестве основы правовой теории и практики во всей Священной Римской империи. И с того момента, как юристы начали изучать и комментировать древние тексты, кардинальным принципом истолкования закона – и определяющей чертой так называемой школы глоссаторов – стало абсолютное доверие словам Кодекса Юстиниана и, насколько возможно, буквальное применение их к существующим обстоятельствам (Vinogradoff 1929, pp. 54–58). Не могло быть никаких сомнений в том, что принцепс , которого юристы договорились уравнять с императором Священной Римской империи, должен был считаться dominus mundi (господином мира), единственным правителем мира. Это означало, что пока в истолковании римского права продолжали использоваться методы глоссаторов, у городов не было никакой возможности отстоять de jure свою независимость от империи, в то время как императорам была гарантирована максимально возможная правовая поддержка усилий, направленных на подчинение городов (pp. 60–62).
Эта проблема заявила о себе со всей остротой в самом начале противостояния между городами и империей, когда все четверо ведущих докторов права из Болоньи не только согласились заседать в комиссии, составившей Ронкальские декреты Фридриха Барбароссы в 1158 г., но стали в самых угодливых выражениях защищать его законные права в качестве суверена всех итальянских городов [9] См. Vinogndoff 1929, p. 61. Взгляд на Ронкальские декреты как на выражение содержащегося в римском праве понятия merum Imperium (чистая власть) был опровергнут, поскольку они в основном имели отношение к феодальным и другим монаршим правам на местах. Однако не может быть никакого сомнения в том, что влияние, оказанное болонскими юристами на комиссию, помогло придать декретам строгий абсолютистский тон. Дискуссию и библиографию по этому вопросу см. в Munz 1969, pp. 167–169. Сами декреты см. в Diet of Roncaglia: Decrees 1893 в библиографии первоисточников.
. Они описывали императора как «верховного правителя на все времена над всеми его подданными и повсеместно» и настаивали на том, что даже внутри итальянских городов «он сохранял власть назначать всех магистратов для отправления правосудия» и «увольнять их, если они пренебрегают своими обязанностями» (Diet of Roncaglia: Decrees 1893, pp. 245, 246). В результате городам было отказано даже в праве назначать и контролировать своих подеста, и, таким образом, их требования свободы были лишены всякого подобия законности.
Читать дальше