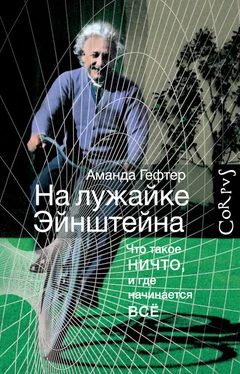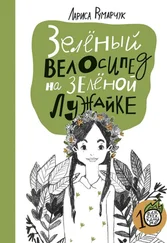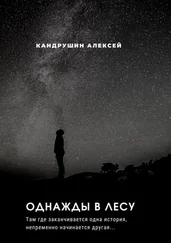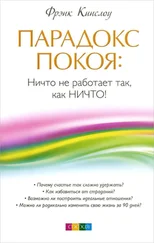Мысли рвали мне мозг. Приближают ли они меня к окончательной реальности, или я двигаюсь по кругу? И если мультивселенная действительно существует, не означает ли это, что в ней есть бесконечное число моих копий и в их головах одни и те же мысли продумываются снова и снова, до бесконечности?
Боже, как это печально! Я чувствовала себя подавленной: эти размышления меня угнетали. Думать, что любая тривиальность, которая вышла из моих уст, транслируется в эфир снова и снова, тупо повторяясь в бескрайней и однообразной мультивселенной, было невыносимо. Я вдруг поняла, почему Борхес испытывал страх перед зеркалами: «это ужас призрачного раздвоения и размножения реальности». В мультивселенной я ощущала себя еще менее подлинной, чем в кошмарном мире Бострома, потому что там я, по крайней мере, могла бы представить себя уникальной, единственной в своем роде симуляцией, симулирующей меня самое. В мультивселенной же я не могла поручиться ни за одно слово, сказанное или написанное мной. Я не могла бы считать себя настоящим исходным вариантом себя, а всех остальных – просто углеродными копиями. Если мультивселенная реальна, тогда и я сама – всего лишь углеродная копия, а мои мысли – всего лишь факсимиле, мои слова так же пусты, как и все их отголоски. В бесконечной мультивселенной все, что я сделала, подумала или сказала, имело бы бесконечный вес и в то же время ничего бы не значило. «Я» было бы «мы», и «нас» было бы пруд пруди.
В офисе журнала New Scientist я просматривала последние электронные препринты по физике, опубликованные на специализированном сайте Корнеллского университета arXiv.org. Вдруг мое внимание привлекло то единственное, что может заставить любую девушку хихикать и краснеть от восторга: новая статья Стивена Хокинга. Написана она была совместно с Томасом Хертогом, молодым физиком из ЦЕРН, и в ней говорилось о новом подходе в космологии, «основная идея которого состоит в том, что история Вселенной зависит от вопросов, которые мы задаем».
Заинтригованная, я углубилась в чтение. Теория струн, начинает статью Хокинг, предлагает целый ландшафт вселенных, «но остается невыясненным, какие рамки нужны, чтобы вписать космологию в ландшафт теории струн». Сейчас у нас нет единой вселенной, которая имела бы смысл! Проблема состоит в том, как объяснял Хокинг дальше, что теория струн возникла из представлений об S- матрице, из необходимости придать смысл странным столкновениям адронов. Моделируя столкновения частиц, физики описывают их с точки зрения наблюдателя, расположенного вне ускорителя, в котором две частицы несутся навстречу друг другу, и регистрирующего все, что происходит в результате их столкновения, оставаясь в счастливом неведении относительно всей промежуточной хитроумной путаницы. Это так называемый подход «снизу вверх»: когда вы точно знаете начальное состояние системы (шаг первый) и, отталкиваясь от него, можете проследить эволюцию системы во времени (шаг второй) и предсказать результат (шаг третий). Это прекрасно работает для лабораторных экспериментов, говорит Хокинг, «но космология ставит вопросы совсем другого характера… Ясно, что S- матрица – не подходящая наблюдаемая для получения таких предсказаний, так как мы живем в самом центре этого особого эксперимента». Другими словами, когда мы переходим к космологии, мы как раз и оказываемся той самой промежуточной хитроумной путаницей.
Каким образом отсюда, изнутри второго шага, мы можем получить информацию о первом шаге? Как нам определить начальное состояние Вселенной? Согласно Хокингу, мы не можем этого сделать. Практически бесконечные величины энергии и плотности всего в новорожденной Вселенной делают ее принципиально квантово-механической. Вселенная, по словам Хокинга, находилась в квантовой суперпозиции всех возможных состояний. Поэтому мы не только не знаем точного исходного состояния Вселенной, но мы и не можем его знать.
Эти два обстоятельства – то, что мы застряли в середине эксперимента, и то, что у Вселенной квантовое происхождение, – делают S- матрицу и связанную с ней философию «снизу вверх» бесполезными для космологии.
Настало время переосмыслить Вселенную, говорил Хокинг, – а это означало, что рассматривать явления надо «сверху вниз». То есть начинать необходимо с наблюдателя и продвигаться по времени в обратном направлении до начала времен. Подход «сверху вниз, – писал Хокинг, – приводит к совершенно другому виду космологии и к другому соотношению между причиной и следствием». При таком подходе «истории Вселенной… зависят от того, что именно наблюдается, вопреки привычному представлению о том, что у Вселенной есть только одна, не зависящая от наблюдателя история». В моих воспоминаниях всплыла конференция в Дейвисе, когда Хокинг обрушился на теорию инфляции и я нацарапала в своей записной книжке для памяти: «Нет истории, не зависящей от наблюдателя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу