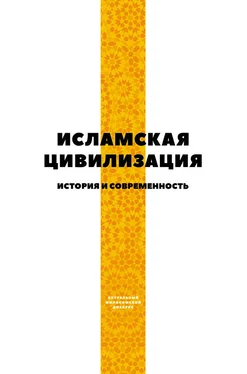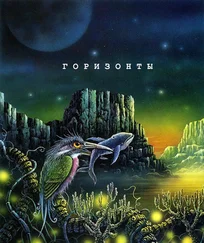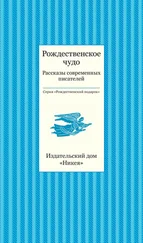Махмуд, по словам Абу Насра ал-‘Утби [504], «заботился о дискуссиях в теоретических науках и риторике, интересовался убеждениями суннитов и течениями сторонников нововведений… был упорным в преследовании безбожия…» [505], придерживался ханафитского мазхаба [506], и его фанатичная приверженность мазхабу заставляла его готовить лазутчиков и всюду направлять надзирателей, следить за людьми и разузнавать об их убеждениях. Он сам говорил: «В этом мире куда ни ткни пальцем, всюду найдешь кармата [507]» [508]. Это недопустимое вмешательство в сферу убеждений он обосновывал сохранением религии и защитой ислама.
Его постоянные победоносные походы в Индию казались недостаточными из-за их несоответствия учению ислама и методам его распространения и не привели к окончательному утверждению ислама на этих территориях. Фанатичная приверженность Махмуда своему мазхабу ставила под угрозу безопасность и свободу тех благотворителей, которые строили медресе и научные центры. Автор «Тарих-и Байхак» пишет: «Когда Шейх ар-Раис Абу-л-Касим Али, который был одним из знатных и богатых людей области Байхак и считался великим человеком из древнего рода, построил в Байхаке четыре медресе для четырех суннитских и шиитских общин, местный осведомитель донес об этом Махмуду. Султан отправил к нему человека, вызвал его ко двору и стал его распекать: «Почему ты не возвышаешь один мазхаб, в который ты веришь сам, и не строишь школы для этой общины?»… Заступники молвили за него слово, и он был отпущен с миром» [509].
В 420 г. х. (1029 г.), когда Махмуд завладел землями дейлемитов [510]в Рее, он повесил многих ученых, которые, на его взгляд, были батинитами [511], а мутазилитов сослал в Хорасан. Опираясь на фетвы муфтиев, он под предлогом обвинения в рафидизме [512]или безбожии повесил многих сторонников рационалистического подхода, а также сжег пятьдесят харваров [513]книг по каламу и философии, которые, несомненно, были сокровищами библиотек [514], тем самым искоренив остатки свободомыслия и плодотворной научной мысли, хотя и считал, как говорил Низами Арузи, что «ученые должны удостоиться общения с ним, дабы он мог удостовериться в их знаниях и компетенции…»» [515]. Дух покровительства наукам и свободных научных дискуссий покинул территории, которыми он правил, и все его соборные мечети, роскошные, казалось бы, медресе и набитые до отказа книгами библиотеки больше не рождали прославленных ученых, а большинство деятелей науки периода Газневидов по сути были воспитанниками эпохи Саманидов. Проведение такой политики в сфере науки, оказание давления на ученых и философов, вмешательство в их дела ознаменовало собой начало прискорбного этапа в истории исламского мира, когда свободное выражение своих убеждений, критика и дискуссии постепенно свелись к бесплодным спорам и диспутам между различными течениями. С установлением повсеместного господства турок-сельджуков этот ненормальный подход еще более упрочил свою власть и стал властвовать над значительной частью территории исламского мира.
Турки-сельджуки, которые, начиная с 430 г. х. (1038 г.) захватили владения Газневидов в Хорасане и Мавераннахре, были новообращенными мусульманами-ханафитами и использовали подчинение духовному авторитету аббасидских халифов в качестве повода для войны с Газневидами, положившей конец деспотичному правлению этой династии в Хорасане и Мавераннахре. Воинственные тюрки-кочевники, которые стремительно ворвались в Иран с востока и вышли на арену политической жизни исламского мира, вскоре ликвидировали власть всех местных и удельных правителей в центральных, северных и южных районах Ирана, а затем, отправившись на запад, дошли в конце концов во второй половине V в. х. (XI в.) до столицы Аббасидов – Багдада и положили конец правлению шиитской династии Бундов в Иране и Ираке, после чего суннитские мазхабы и суверенитет аббасидских халифов в очередной раз распространились на всем пространстве исламского мира от фатимидского [516]Египта до Андалусии, находившейся под властью Омейядов и их преемников, так что едва не погасшая свеча Аббасидов вспыхнула вновь благодаря поддержке сельджуков и особенно их могущественного визиря Низам ал-Мулька [517].
Как и арабские мусульмане-неофиты, захватившие Сасанидский Иран, сельджуки были кочевниками-степняками, одержавшими победу в завоевании стран и свержении местных правителей, однако не имевшими ни малейшего понятия о том, как этими странами управлять, а потому они с самого начала подобно арабским халифам стали искать помощи для управления этим обширным ареалом у культурных и распорядительных иранских советников и визирей, с той лишь разницей, что узкомазхабная ограниченность эпохи Газневидов настолько погрузила политических и религиозных деятелей в сектантство и предрассудки, что они не могли оказать сколько-нибудь ценной услуги развитию науки, культуры, цивилизации и распространению необходимых научных знаний, как это делали просвещенные и амбициозные визири Саманидов и Бундов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу