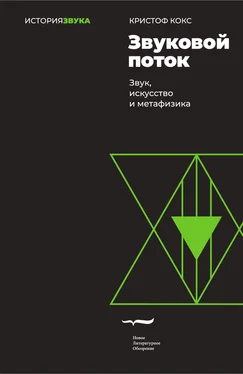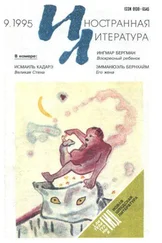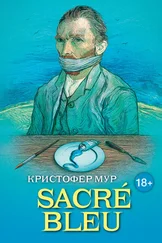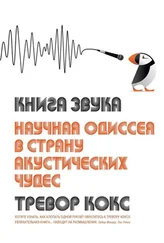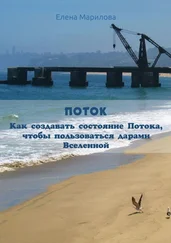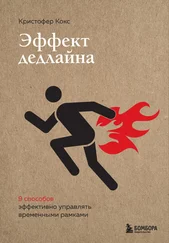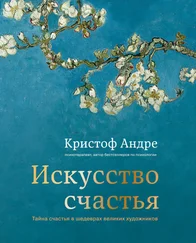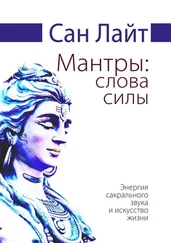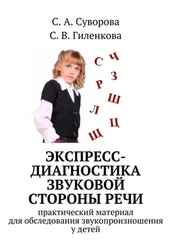Кроме того, эта книга вносит вклад в расползающееся поле исследований звука ( sound studies ), образовавшееся в конце 1990‐х параллельно с ростом признания саунд-арта как достойной сферы практики и выставочной деятельности в искусстве 18 18 См. Hilmes M. Is There a Field Called Sound Culture Studies? And Does It Matter? // American Quarterly. Vol. 57. №. 1. March 2005. P. 249–259. См. также Erlmann V., Bull M. – редакторское предисловие к юбилейному выпуску журнала Sound Studies (2015). О взрывном росте выставок саунд-арта с конца 1990‐х см. Cluett S. Ephemeral, Immersive, Invasive: Sound as Curatorial Theme, 1966–2013 // The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space / Ed. N. Levent and A. Pascual-Leone. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2014.
. Однако мой онтологический подход и философская ориентация расходятся с основными течениями изысканий в исследованиях звука, которые (под знаменами «исследований культуры звука» или «аудиальной культуры») стремятся центрировать роль звука, слушания и технологий записи относительно специфических культурных и исторических контекстов и проследить циркуляцию в них смысла и власти. Один критик предположил, что мой подход не только отличается от этих тенденций в исследованиях звука, но и резко противопоставляет себя им, а также что онтологический поворот, который я утверждаю, «прямо ставит под вопрос релевантность изысканий в области аудиальной культуры, аудиальных техник и технологической медиации звука» 19 19 Кейн Б. Саунд-стадиз в обход аудиальной культуры // Городские исследования и практики. 2018. № 2 (4). С. 20–38.
. Это вовсе не так. Поскольку мой философский реализм не в ладах с антиреализмом, широко распространенным в исследованиях культуры, я утверждаю, что звуковая онтология и аудиальная культура скорее дополняют друг друга, чем противоречат друг другу, работая на разных уровнях. Во второй главе я показываю, что звуковая онтология требует не только общего определения звукового потока, но и частного анализа процессов захвата и кодирования звукового потока разнообразными нечеловеческими силами и ассамбляжами, человеческими сообществами и социальными формациями. Исследования культуры звука могут обеспечить необходимыми расширениями мой более широкий анализ общих механизмов захвата звукового потока, изучая артикуляцию звука в специфических культурных и исторических конфигурациях. Единственное мое требование к аудиальным исследованиям культуры – признать звуковой поток (и течения материи – энергии – информации в целом) как реальный и первичный, предшествующий всякому социальному кодированию и всегда разрывающий, декодирующий и переполняющий подобные человеческие вмешательства.
В первой главе я указываю на ограничения преобладающих сегодня эстетических теорий и утверждаю, что звуковым искусствам нужна альтернативная, материалистическая теория. Отталкиваясь от звуковой метафизики Шопенгауэра и Ницше, развивая эту метафизику через понятие интенсивности, разработанное Делёзом и Деландой, я набрасываю такую альтернативную теорию и ввожу понятие звукового потока. Я показываю, как звуковой материализм подрывает онтологию объектов и замещает ее онтологией течений, событий и эффектов – наиболее характерных предметов в работах таких саунд-художников, как Марианн Амахер, Крис Кубик и Энн Уолш, к чьим работам я обращаюсь. Далее я утверждаю, что этот материалистический подход подходит не только звуковым искусствам, но и предоставляет альтернативную модель для понимания художественного производства и его рецепции в целом.
Вторая глава развивает это понятие звукового потока и выделяет разные способы, которыми он может быть захвачен живыми существами, в частности – людьми. Я критически разбираю подходы Жака Аттали и Криса Катлера, чтобы изучить механизмы, посредством которых шум трансформируется в значимый звук, а звук захватывается разными системами записи (биологическими, символическими, механическими и т. д.). Отдельное внимание я уделяю кризису музыкальной нотации в 1950‐х и последовавшее зарождение форм звукового искусства, внимательных к вечному потоку звука и его (всегда только частичному и локальному) захвату. В этой главе я с разных сторон разбираю творчество Кристиана Марклея, эксплицитно обращенное к истории звукового потока и захвата. Заканчиваю эту главу я рассуждением на тему циркуляции звука в эпоху MP3 и цифрового стриминга.
Третья глава расширяет анализ из предыдущей, фокусируясь на способах, которыми фонография расшатывает гуманистические и идеалистические концепции звукового производства, значения и слушания. Развивая аргумент Фридриха Киттлера о том, что звукозапись предоставляет доступ к «реальному», я оспариваю канонический семиотический подход Ролана Барта к слушанию, выстраивая биологический аргумент, натурализующий человеческое производство и рецепцию звука, размещая их наравне с механическим производством и записью. Аргументация проводится через анализ ключевых работ Элвина Люсье, которого я считаю глубоко материалистическим, реалистическим композитором-натуралистом и саунд-художником.
Читать дальше