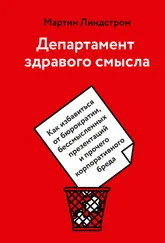В результате появилось море документов о стимулировании «воображения» и «творчества» в условиях, словно специально созданных для того, чтобы задушить на корню любые проявления воображения и творчества. Я не ученый. Я работаю в сфере социальной теории. Но результаты этого в области моих исследований я вижу. В последние тридцать лет в Соединенных Штатах не появилось ни одной новой крупной работы по социальной теории. Вместо этого нас довели до состояния средневековых схоластов, которые пишут бесчисленные аннотации к французским теоретическим работам 1970-х годов с виноватым осознанием того, что, если бы в американской академической среде появились современные аналоги Жиля Делёза, Мишеля Фуко или даже Пьера Бурдье, они вряд ли бы сумели окончить аспирантуру – даже если бы им это удалось, их, скорее всего, отказались бы зачислить в штат 103.
Было время, когда в обществе университетский мир выполнял роль прибежища для эксцентричных, блестящих и непрактичных личностей. Теперь это не так. Он стал миром профессиональных продавцов самих себя. Что до эксцентричных, блестящих и непрактичных персонажей, то теперь, похоже, для них вообще не осталось места.
Если это справедливо для общественных наук, где исследования по-прежнему проводятся в основном отдельными людьми и требуют минимальных затрат, то можно представить, что в естественных науках дело обстоит намного хуже. И действительно, как недавно один физик предупреждал студентов, собиравшихся делать научную карьеру, даже по окончании многолетнего периода прислуживания кому-то еще ваши лучшие идеи все равно будут тормозить на каждом шагу.
У вас будет уходить больше времени на написание заявок, чем на проведение исследований. Что еще хуже, поскольку ваши проекты будут оцениваться конкурентами, вы не сможете дать волю своему любопытству – вам придется тратить свои усилия и талант на предугадывание и уход от критики, а не на решение важных научных проблем… Уже стала притчей во языцех фраза о том, что оригинальные мысли – это поцелуй смерти для заявки, потому что еще не доказано, что они работают 104.
Это во многом отвечает на вопрос о том, почему у нас нет средств телепортации или антигравитационных ботинок. Здравый смысл говорит, что если вы хотите максимально увеличить научную креативность, вы должны найти нескольких ярких людей, дать им ресурсы, необходимые для развития любой мысли, которая придет им в голову, а потом оставить их на какое-то время в покое. Вероятно, большинство ничего не добьется, но один или два из них могут открыть что-то совершенно новаторское. Если вы хотите свести к минимуму вероятность неожиданных прорывов, скажите тем же самым людям, что они не получат никаких ресурсов, если только не будут львиную долю времени соревноваться друг с другом, пытаясь убедить вас в том, что они уже знают, что откроют 105.
Примерно такая система у нас сейчас и есть 106.
К тирании менеджерского подхода в естественных науках мы также можем добавить ползучую приватизацию результатов исследований. Как недавно напомнил нам британский экономист Дэвид Харви, исследования в формате «открытого кода» далеко не новы. Научные разработки всегда велись в подобном ключе в том смысле, что ученые делятся друг с другом материалами и результатами. Конечно, среди них есть и конкуренция, но она, по его меткому выражению, носит «товарищеский» характер:
Товарищеская конкуренция проявляется тогда, когда я (или моя команда) хочу первым доказать специфическое предположение, объяснить особое явление, открыть особый вид, звезду или частицу, так же, как я хочу победить, когда еду на велосипеде наперегонки с другом. Но товарищеская конкуренция не исключает сотрудничества, в рамках которого соревнующиеся исследователи (или исследовательские команды) делятся со мной предварительными результатами, опытом применения различных методов и тому подобным… Разумеется, обмен знаниями, возможный благодаря книгам, статьям, компьютерному обеспечению и непосредственному диалогу с другими учеными, образует интеллектуальное сообщество 107.
Это явно более не относится к ученым, работающим в корпоративном секторе, где открытия тщательно охраняются, но распространение корпоративной этики в университетском мире и в исследовательских институтах все чаще ведет к тому, что даже те ученые, чья работа финансируется государством, рассматривают свои открытия как личную собственность. Все меньшая их часть публикуется. Университетские издательства добиваются того, что к публикуемым открытиям становится все труднее получить доступ, что еще более обосабливает интеллектуальное сообщество. В результате товарищеская конкуренция в формате открытого кода постепенно трансформируется в классическую рыночную конкуренцию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
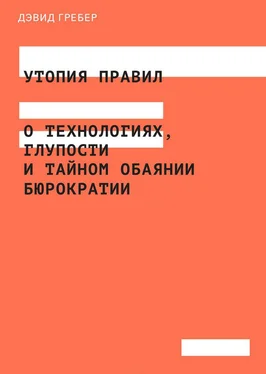
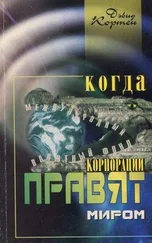



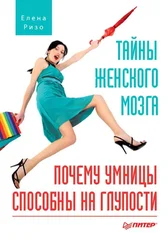
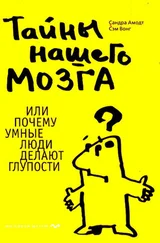

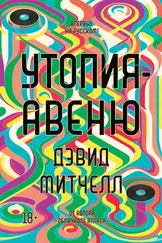
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)