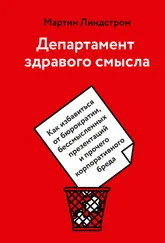То же, как я уже отмечал, можно сказать о прорывах, которые многие ожидали в медицине и даже (не побоюсь это сказать) в области компьютеров. Интернет, конечно, замечательная вещь. Но если бы поклонник научной фантастики из 1950-х годов попал в наши дни и спросил, что стало самым важным технологическим достижением за последние шестьдесят лет, скорее всего, он бы серьезно разочаровался. Он почти наверняка заметил бы, что то, о чем мы говорим, это лишь сверхбыстрое и повсеместно доступное сочетание библиотеки, отделения почты и каталога доставки. «И это лучшее, чего добились ваши ученые за пятьдесят лет? Мы ждали появления компьютеров, которые могут думать!»
Это правда, несмотря на то, что общий объем средств, выделяемых на исследования, с 1970-х годов резко увеличился. Конечно, доля этих средств, приходящаяся на корпоративный сектор, выросла еще больше, вплоть до того, что сегодня частные компании предоставляют на исследования в два раза больше денег, чем правительство. Но общее увеличение столь велико, что объем правительственных расходов на научные изыскания, выраженный в реальных долларах, все равно намного больше, чем раньше. И хотя «фундаментальные», «движимые любопытством» или «беспочвенные» исследования, то есть те, которые проводятся не с целью немедленного практического применения их результатов и потому скорее могут привести к неожиданным прорывам, составляют все меньшую часть общего объема, сегодня денег выделяется столько, что общий уровень финансирования фундаментальных исследований вырос. И тем не менее большинство честных оценок сходятся в том, что результаты оказались на удивление жалкими. Мы явно не увидим ничего похожего на постоянный поток концептуальных революций – генетическая наследственность, теория относительности, психоанализ, квантовая механика, – к которым человечество привыкло и которых оно ждало сто лет назад.
Почему?
Одно из распространенных объяснений гласит, что когда спонсоры проводят фундаментальные исследования, они складывают все яйца в одну огромную корзину – в «Большую науку», как ее стали называть. В качестве примера часто приводят проект «Геном человека». В целом на этот проект, запущенный правительством США, было потрачено почти три миллиарда долларов, в нем приняли участие тысячи ученых и сотрудников из пяти различных стран, с ним связывались огромные ожидания, но в итоге было обнаружено лишь то, что последовательности генов у человека и у шимпанзе практически совпадают и устроены далеко не так сложно, как последовательности генов, допустим, риса, а также что возможности практического применения полученных знаний очень ограничены. Более того, – и это, на мой взгляд, ключевой момент – политические вложения в подобные разработки и окружающая их шумиха показывают, насколько даже фундаментальные исследования сегодня подчинены политическим, административным и маркетинговым императивам (у проекта «Геном человека», например, был собственный логотип, выполненный в корпоративном стиле), которые снижают вероятность получения каких-либо революционных результатов.
Здесь, как мне кажется, коллективное восхищение мифическими истоками Силиконовой долины и интернета ослепило нас, не дав увидеть то, что происходит на самом деле. Под их влиянием мы вообразили, что исследования и развитие теперь определяются в первую очередь небольшими коллективами отважных предпринимателей или своего рода децентрализованной кооперацией, создающей программное обеспечение с открытым кодом. Это не так. Это лишь те исследовательские команды, которые чаще всего добиваются результатов. Если уж на то пошло, разработки двинулись в противоположном направлении. Они по-прежнему предопределяются гигантскими бюрократическими проектами; изменилась лишь бюрократическая культура. Вследствие все большего взаимопроникновения правительства, университетов и частных компаний все они переняли язык, восприятие и организационные формы, зародившиеся в корпоративном мире. Хотя это и могло до определенной степени способствовать ускорению создания товаров, востребованных рынком (а именно для этого и существует корпоративная бюрократия), в том, что касается стимулирования оригинальных исследований, результаты оказались катастрофическими.
Здесь я могу опираться на собственный опыт, который я преимущественно получил в университетах Соединенных Штатов и Великобритании. В обеих странах за последние тридцать лет произошел взрывной рост количества рабочих часов, затрачиваемых на административную бумажную работу, в ущерб практически всему остальному. В моем университете, к примеру, административных сотрудников больше, чем преподавателей, но и преподаватели также должны посвящать административным обязанностям по меньшей мере столько же времени, сколько преподаванию и исследованиям вместе взятым 102. Теперь это в порядке вещей в университетах по всему миру. В свою очередь, быстрый рост бумажной волокиты является прямым результатом применения приемов корпоративного управления, которые всегда оправдывают как способы повышения эффективности через внедрение конкуренции на всех уровнях. На практике эти приемы управления неизменно приводят к тому, что в итоге все тратят бо́льшую часть своего времени на то, чтобы продать другим разные вещи: заявки на грант; планы-проспекты книг; оценки работы наших студентов и заявлений на участие в грантах; оценки наших коллег; каталоги новых междисциплинарных специальностей, институтов, конференций, семинаров и самих университетов, превратившихся ныне в бренды, которые нужно продавать будущим студентам или спонсорам. Маркетинг и пиар наводнили все стороны университетской жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
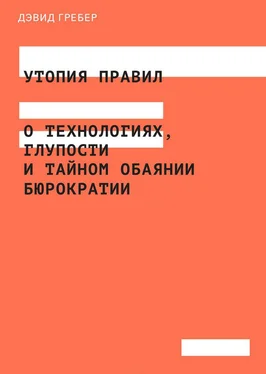
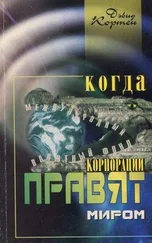



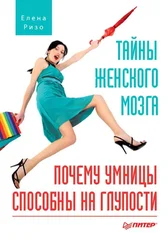
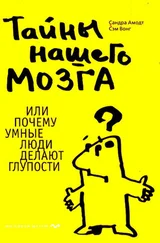

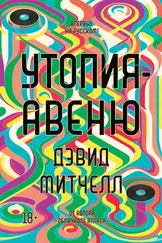
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)