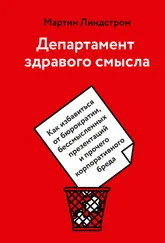Когда историки станут составлять эпитафию неолиберализму, они должны будут написать, что это была форма капитализма, которая систематически отдавала приоритет политическим императивам над экономическими. То есть, выбирая между образом действий, который приведет к тому, что капитализм начнет казаться единственно возможной экономической системой, и образом действий, который превратит капитализм в более устойчивую в долгосрочном плане экономическую систему, неолиберализм всегда склонялся к первому варианту. Действительно ли уничтожение гарантии занятости при увеличении рабочего дня создает более производительную рабочую силу (не говоря уже о ее творческом потенциале и преданности)? Есть все основания полагать, что происходит ровно противоположное. В чисто экономических терминах неолиберальные реформы трудового рынка почти неизбежно приводят к отрицательному результату – и снижение темпов экономического роста по всему миру в 1980-е и 1990-е годы лишь усиливает это впечатление. Тем не менее они оказались чрезвычайно эффективными в деле деполитизации труда. То же можно было бы сказать о бурном росте армий, полиции и частных охранных служб. Они явно непроизводительны и лишь разбазаривают ресурсы. Вполне вероятно, что сам вес аппарата, созданного для обеспечения идеологической победы капитализма, его в конце концов и потопит. Но легко заметить, что если главным императивом властителей мира является устранение возможности представить неизбежное, спасительное будущее, которое будет в корне отличаться от сегодняшнего мира, то он должен быть ключевым элементом неолиберального проекта.
Даже в тех областях науки и технологий, которые получили массовое финансирование, не произошло ожидаемых от них прорывов.
Пока кажется, что все детали складываются в единую картину. В 1960-е годы консервативные политические силы стали опасаться разрушительных социальных последствий технологического прогресса, который они провозгласили виновником социальных потрясений тех лет, а работодатели начали беспокоиться об экономических результатах механизации. Снижение советской угрозы позволило перенаправить ресурсы на те сферы, что считались менее опасными для социально-экономического устройства, – и, по сути, на те, что могли поддержать кампанию по быстрому устранению завоеваний, которых прогрессивные социальные движения добились с 1940-х годов, с тем чтобы одержать решительную победу в противостоянии, расцениваемом американской элитой в качестве глобальной классовой войны. Смену приоритетов представляли как отказ от масштабных государственных проектов и возвращение к рынку, но на самом деле она подразумевала изменение направленности исследований, координируемых государством – от программ вроде НАСА (или, допустим, поисков альтернативных источников энергии) к большему акценту на военных, информационных и медицинских технологиях.
На мой взгляд, эти доводы до определенной степени справедливы, но они не могут все объяснить. В первую очередь, они не способны ответить, почему во всех сферах, в которых осуществлялись щедро финансируемые экспериментальные проекты, мы так и не получили ничего похожего на достижения, ожидавшиеся пятьдесят лет назад. Приведу лишь один наиболее очевидный пример: если 95 % исследований в области робототехники финансировалось военными, то почему по-прежнему ничего не слышно о роботах-убийцах из фильма о Клаату, стреляющих лучами смерти из глаз? Ведь мы знаем, что разработчики над этим трудились.
Разумеется, в военных технологиях были достижения. Общепризнано, что одна из основных причин, почему мы выжили в холодной войне, состоит в том, что атомные бомбы работали более или менее так, как о них рассказывали, а системы доставки – нет; межконтинентальные баллистические ракеты в действительности не были способны поражать города, не говоря уже о специфических целях внутри них, что означало, что не было особого смысла наносить первый ядерный удар, если только вы сознательно не собирались уничтожить весь мир. Зато современные крылатые ракеты очень точны. Тем не менее все хваленое высокоточное оружие, похоже, так и не способно устранить конкретных индивидов (Саддама, Усаму, Каддафи), даже если запускать снаряды сотнями. Беспилотники – это просто авиамодели, управляемые дистанционно. А всякие бластеры так и не появились, причем не потому, что их не пытались создать – мы должны иметь в виду, что Пентагон потратил на эти цели миллиарды долларов, но получить он смог только лазеры (технология 1950-х годов), которые, в случае точного наведения, могут ослепить вражеского наводчика, смотрящего прямо на луч. Это не только непорядочно, но и просто смешно. Фазеры, способные оглушать, не появляются даже на чертежных досках; а если говорить о пехотных боях, то в 2011 году излюбленным оружием почти повсеместно оставался советский автомат Калашникова АК-47, названный так по году создания – 1947 101.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
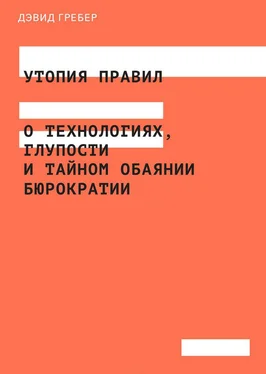
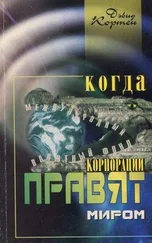



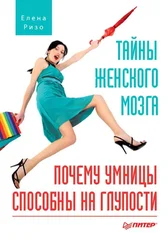
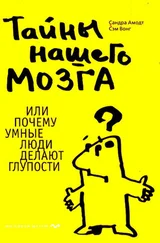

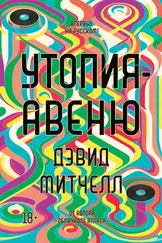
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)