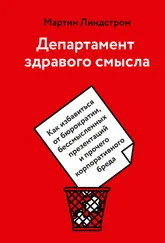Ко времени высадки на Луну в 1968 году американские плановики уже не относились к своему соревнованию серьезно. СССР проиграл космическую гонку, а значит, американские исследователи могли больше не беспокоиться, что Советы создадут базы на Марсе и роботизированные фабрики, и уж тем более, что они заложат технологическую основу для построения коммунистической утопии.
Конечно, стандартное объяснение заключается в том, что такая смена приоритетов стала естественным результатом торжества рынка. Программа «Аполлон» была главным детищем Большого правительства – проектом советского стиля в том смысле, что он потребовал немалых усилий всего государства и координации со стороны обширной правительственной бюрократии. Как только советская угроза сошла на нет, капитализм смог привести технологическое развитие в большее соответствие с нормальными, децентрализованными, рыночными императивами – например, сосредоточить финансируемые частными лицами исследования на создании востребованных рынком товаров вроде сенсорных телефонов, небольших рискованных стартапов и тому подобных новшеств. Конечно, это именно то направление, к которому Тоффлер и Гилдер стали склоняться в конце 1970-х – начале 1980-х. Но такое объяснение, безусловно, ошибочно.
Прежде всего, объем действительно новаторских исследований, проводимых в частном секторе, снизился по сравнению с пиком, которого компания Bell Labs и подобные ей исследовательские отделы корпораций достигли в 1950-е и 1960-е годы. Отчасти это произошло из-за изменения режима налогообложения. Телефонная компания была готова инвестировать такую высокую долю своей прибыли в исследования потому, что прибыль облагалась внушительными налогами – выбор между вкладыванием денег в повышение зарплат рабочим (благодаря чему обеспечивалась их преданность) и инвестициями в исследования (которые имели смысл для компании, продолжавшей придерживаться устаревших представлений о том, что задачей корпорации было в большей степени создание вещей, чем создание денег), с одной стороны, и их присвоением правительством, с другой, был очевиден. После перемен 1970-х и 1980-х годов, описанных во введении, все это поменялось. Налоги на корпорации были резко снижены. Топ-менеджеры, вознаграждение которых все чаще облекалось в форму биржевых опционов, начали не только выплачивать прибыль инвесторам в виде дивидендов, но и пускать деньги, которые могли бы использоваться для повышения зарплат, найма новых сотрудников или увеличения расходов на исследования, на выкуп акций, что увеличивало стоимость портфелей топ-менеджеров, но никак не влияло на рост производительности. Иными словами, сокращение налогов и финансовые реформы привели к последствиям, которые фактически оказались противоположными тем, что провозглашались изначально.
В то же время правительство США так и не отказалось от гигантских схем технологического развития, контролируемого государством. Оно лишь резко сместило акцент с гражданских проектов вроде космической программы на военные исследования – не только на «Звездные войны», которые стали рейгановской версией масштабного детища в советском стиле, но и на бесчисленное множество оружейных проектов, разработок в области коммуникаций и технологий слежения и тому подобных вопросов, «связанных с безопасностью». До определенной степени так было всегда: миллиарды, потраченные только на ракетные новшества, всегда затмевали относительно незначительные суммы, направлявшиеся на космическую программу. И все же к концу 1970-х годов большая часть разработок стала проводиться прежде всего для военных нужд. Основной причиной отсутствия у нас роботизированных фабрик является то, что в последние несколько десятилетий около 95 % средств, предназначенных на эксперименты в области робототехники, выделялось Пентагоном, который, разумеется, намного больше заинтересован в открытиях, обеспечивающих разработку беспилотников, чем в тех, что ведут к созданию полностью автоматизированных бокситовых шахт или роботов-садовников.
Эти военные проекты имели и свои собственные гражданские побочные продукты, один из которых – интернет. Однако их следствием стало то, что развитие пошло по очень специфическому пути.
Допустимо предположить и еще более мрачный вариант. Можно было бы сказать, что даже смещение фокуса исследовательских разработок на информационные технологии и медицину было не столько переориентацией на потребительские императивы, определяемые рынком, сколько частью усилий, направленных на то, чтобы закрепить испытанное Советским Союзом технологическое унижение полной победой в глобальной классовой войне: не только путем навязывания абсолютного военного господства США за рубежом, но и посредством полного искоренения общественных движений внутри страны. Почти все появившиеся технологии способствовали усилению надзора, трудовой дисциплины и социального контроля. Компьютеры несколько расширили пространство свободы, как нам постоянно напоминают, но вместо того чтобы привести к утопии, в которой нет труда и о которой мечтали Эбби Хоффман или Ги Дебор, они были использованы таким образом, что привели к ровно противоположному результату. Информационные технологии сделали возможной финансиализацию капитала, которая еще сильнее вогнала рабочих в долги и в то же время позволила работодателям создать новые «гибкие» трудовые режимы, уничтожившие традиционные гарантии занятости и вызвавшие значительное увеличение рабочего дня почти для всех сегментов населения. Помимо перенесения за рубеж традиционных рабочих мест на заводах, она разгромила профсоюзное движение и тем самым уничтожила всякую возможность эффективной политики рабочего класса 100. Тем временем, несмотря на беспрецедентные вложения в исследования в области медицины и биологии, мы все еще продолжаем ждать лекарств от рака и даже от обыкновенной простуды, а самыми значимыми прорывами в сфере медицины стали средства вроде прозака, золофта или риталина – уникальные, можно сказать, способы добиться того, чтобы эти новые профессиональные требования окончательно не свели нас с ума.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
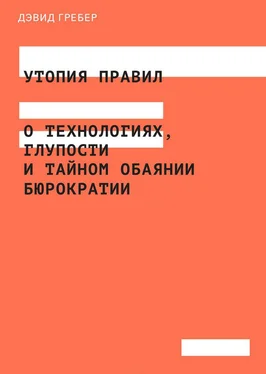
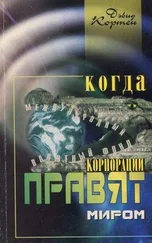



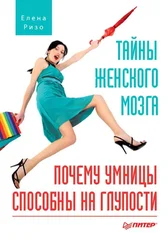
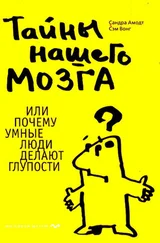

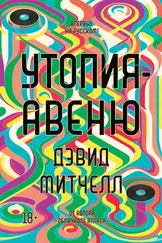
![Дэвид Гребер - Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres]](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-thumb.webp)