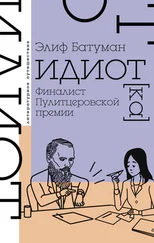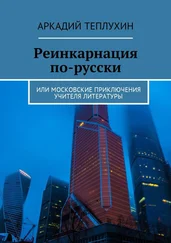Никогда в жизни я не жила настолько впроголодь, как тем летом. В моих воспоминаниях мы с Эриком лежим поперек кровати и фантазируем, как покупаем все, что захотим в круглосуточном «Сэйфвэе» через дорогу от нашей квартиры в Маунтин-Вью.
– Мне целого сома, – предложила я.
– Праздничное мороженое с печеньем, – парировал Эрик, намекая на фирменный сэйфвэевский деликатес с синей глазурью и кусочками печенья.
Когда мы только переехали в Маунтин-Вью, мне казалось, что вид из окна на гигантскую парковку «Сэйфвэя» действует гнетуще, но это я еще не знала, что такое жить в «Четвертом рае».
Завтрак состоял из яиц всмятку, которые секунду побывали в теплой (не кипящей) воде, с хлебом и апельсиновым джемом. Джем подавался из кадки под раковиной; когда Люда приподнимала клеенку, служившую крышкой, было видно, как на поверхности, похожей на драгоценный камень, суетится коллектив деловых муравьев.
Наши отношения с Людой вышли на новый уровень негласного антагонизма в тот день, когда Эрик обнаружил в другом крыле вторую кухню, где емкость с джемом накрыта прорезиненной крышкой и никаких муравьев не бегает: джем с муравьями давали только нам. При отсутствии видимого дефицита джема подобное поведение мне было непонятно. Эрик утверждал, что это характерно для таджикской коммунистической элиты. В каморке рядом с потайной кухней Эрик обнаружил еще и потайной унитаз. В главном туалете унитаз был сломан, а человек, который чинит унитазы, по словам Люды, ушел в отпуск, так что мы с Эриком ходили в «туалет по-узбекски» – в дырку над ямой. Когда поднимаешь деревянную крышку туалета по-узбекски, тебе в лицо вырывается плотное черное жужжащее облако мух. Порой туалет по-узбекски засорялся, и мы пробивали его огромным колом. Наши чувства были весьма оскорблены, когда мы узнали, что ходить в этот туалет вынуждены только мы.
Каждое утро в полвосьмого я уходила из Людиного дома в университет. Ее улица в этот час была пустынна и тиха. Пару раз я видела курицу, расхаживающую там с важным видом, как региональный менеджер. На перекрестке с главной дорогой стоял полицейский участок. На лавках во дворе сидели вразвалку и громко переговаривались многочисленные полицейские. Вдоль улицы Шарафа Рашидова у столиков старики в тюбетейках торговали лотерейными билетами и сигаретами россыпью. Хозяева чайных поливали из шлангов тротуары, будя бродячих собак.
Несмотря на обилие этих и других интересных видов в городе, который Тамерлан называл зеркалом мира, большую часть прогулки я не отрывала глаз от земли, пытаясь не провалиться в зияющие щели, то и дело попадавшиеся на пути. Жителей Самарканда, вероятно, не сильно волнуют зияющие щели под ногами, зато щелям нашлось полезное применение – сжигать домашний мусор. Где-то в их глубинах смутно тлеют газеты, арбузные корки и иные предметы. Нередко зияющую щель с догорающим мусором можно перейти только по доскам или металлическим балкам. Я была сильно впечатлена проворством, с каким девушки, особенно русские, семенят на своих каблучках по этим импровизированным мосткам с невозмутимыми лицами, чье выражение весьма отличалось от моего – сообщавшего, как я подозреваю, глубокое и неподдельное смятение.
Заключительная часть пути лежала через не то прошлую, не то будущую стройку, обширное пространство оранжевой глинистой земли и камешков. Ходьба через эту территорию рождает чувство безнадежности, будто бежишь во сне – правда, потом понимаешь, что все было наяву, поскольку туфли сделались оранжевыми. Оранжевая глина уступала место редкой травке, и, наконец, моя цель – Девятиэтажный дом, самое большое здание в университете. Когда здешний дворник, с которым мы потом подружились, оставлял мне свой почтовый адрес, он написал: «Самаркандский государственный университет, Девятиэтажный дом, дворнику Хабибу». «Я так получаю всю почту», – объяснил он.
По утрам в холле Девятиэтажного дома полно серьезной молодежи. Девушки – с накрашенными ярко-красной помадой губами и в платьях до лодыжек, парни – в светлых рубашках, темных штанах и остроносых туфлях. Золотозубые улыбки сверкают на солнце. Охрана в форме проверяет пропуск и заставляет проходить через металлодетектор, который, похоже, не подключен.
Лифт вечно не работал, и поэтому я пешком шагала на пятый этаж, где меня ожидал преподаватель языка, аспирант-философ Анвар. (Как потом выяснилось, его специализация – марбургская школа неокантианства.) В качестве пособия Анвар пользовался советским учебником 1973 года, где узбекский язык подавался исключительно через призму хлопководства: ценный урок того, как мономания структурирует мир. Раздел о месяцах и временах года рассказывал, когда хлопок сеют и когда собирают, а раздел о семье – какую роль в хлопководстве играют те или иные ее члены.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
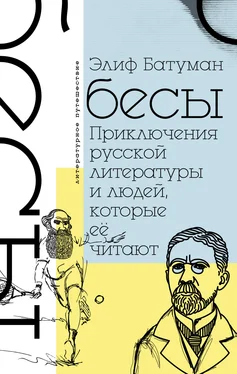
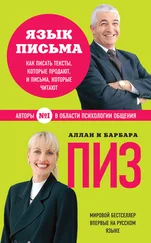
![Элиф Батуман - Идиот [litres]](/books/413334/elif-batuman-idiot-litres-thumb.webp)