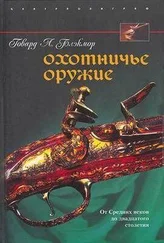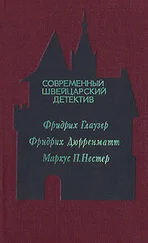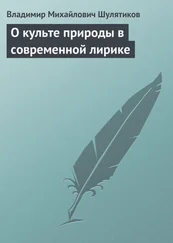Руссо, По, Бодлер говорили о «творческой фантазии», причем в их высказываниях акцентировалась именно креативная возможность. Рембо динамизирует формулировки предшественников. Он говорит о «творческом импульсе » в одном из главных положений своей эстетики: «Твоя память и твое восприятие – только пища для твоего творческого импульса. Мир, когда ты покинешь его, каков он станет, что с ним станет? Безусловно: ничего не останется от его теперешнего вида». Художественный импульс функционирует разрушительно, искажает, отчуждает облик мира. Это акт насилия. Одно из ключевых слов Рембо: жестоко (atroce).
Властительная фантазия изменяет, переиначивает пространственные позиции. Несколько примеров: карета катится в небо, на дне озера находится салон, над горными вершинами вздымается море, железнодорожные рельсы врезаются в отель. Отношения человека и вещи теряют однозначность: «Нотариус висит на своей часовой цепочке». Фантазия принуждает к совпадению самые отдаленные мотивы и предметы, конкретное и воображаемое: «…склоняются к смерти бормотанием молока рассвета, ночью последнего столетия». Словно повинуясь желанию Бодлера, фантазия наделяет объекты ирреальными красками, дабы создать атмосферу еще более резкого отчуждения: голубой латук, голубая лошадь, зеленые пианисты, зеленая усмешка, зеленая лазурь, черная луна. Направленная в беспредельную даль, фантазия плюрализирует названия и понятия, легитимные лишь в единственном числе: Этны, Флориды, Мальстремы. Они интенсифицируются таким способом, но отпадают от реальности. Этому соответствует другое пристрастие Рембо: снимать локальности и ситуативные ограничения через суммирующее «все»: «все убийства и все побоища»; «все снега». Умножения и суммирование… фантазия углубляется, врывается в реальное, превращая ее в материал для своих сверхдействительностей.
Онирические визии, как у Бодлера, стремятся к неорганическому, чтобы обрести твердость и чужеродность. «В горькие, невыносимые часы я сжимаюсь, словно сапфировый или металлический шар». Одно из замечательных стихотворений в прозе называется «Fleurs» [49] . Вздымаясь медленной волной, его фразы, его периоды достигают напряженной загадочности: в конце напряжение ослабляется, но стихотворение отнюдь не становится доступней. Движение образов изгибается в линии абсолютной фантазии и абсолютного языка. Неорганическое здесь выявляет ирреальность и магическую красоту текста: золотая степь, зеленый бархат, хрустальные диски, чернеющие как бронза в солнце; наперстянка раскрывается над филигранным ковром из серебра, глаз и волос; агат, усыпанный золотыми монетами, колонны красного дерева, изумрудный собор, тонкие рубиновые стрелы. Роза и розы, охваченные минеральной нереальностью, вовлекаются в тайное родство с ядом наперстянки. В глубине подобной фантазии магическая красота едина с уничтожением.
Ядовитое растение и розы, в другом месте грязь и золото – образная формула для диссонансов, неизбежных при активности подобной фантазии. Но нередки также острые лексические диссонансы, а именно вербальные группы, сжимающие гетерогенные факты и понятия на минимальном языковом пространстве: солнце, пьяное от асфальта; июльское утро с привкусом зимнего пепла; медные пальмы; сны как голубиный помет. То, в чем возможно предположить какую-либо уютность или нежность, рассекается наискось, обычно к концу текста, брутальным, вульгарным словом. Разрывать, а не соединять – тенденция этого дикта. Интересен также диссонанс между смыслом и способом высказывания.
В стиле народной песни выдержано очень темное стихотворение «Chanson de la plus haute tour» [50] . В другом стихотворении – «Les chercheuses de poux» [51] – мерзость, неистовое расчесывание, ритуал поиска вшей – все это плывет в чистых лирических интонациях. Хаос и абсурд передаются деловито и сжато, противоположности следуют одна за другой без «но», «однако», «впрочем».
Немного об «Озарениях». Название многозначно, и возможные позиции перевода таковы: иллюминация, освещение, красочные пятна и мазки, озарения. Произведение не поддается тематическому анализу, образы и процессы загадочны. В языке расплывчатость сменяется внезапным обрывом, за настойчивыми повторами следуют логически необоснованные вербальные группы. Разбросанные мотивы и темы движутся между перспективой и ретроспективой, между ненавистью и восторгом, пророчеством и отречением. Эмфатические, экспрессивные спады и нарастания рассеяны в пространстве от звезд до могил, в пространстве, населенном безымянными фигурами, убийцами, ангелами. Эпир, Япония, Аравия, Карфаген, Бруклин встречаются на единой сцене. И, напротив, реально объединенное распадается до полной бесконтактности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу