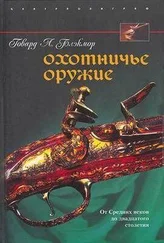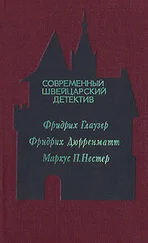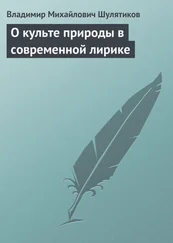Двенадцатью годами ранее Бодлер написал стихотворение «Les sept vieillards» [47] . Здесь также уродливы и люди и вещи. Но присутствует вполне определенная ориентация. Место и процесс даются в поступательном развитии: сначала шумный город, затем захолустная улочка, затем время (раннее утро); появляется один старик (не фрагментарно, а полностью), следует второй; всего их семь. Реакции лирического «я» точны: отвращение, ужас, заключительное суждение. Безобразное достаточно обострено, однако не переходит разумной границы и, главное, упорядочено в пространстве, времени и аффекте. Один старик сравнивается с Иудой. Безусловный ориентир. Ассоциация с какой-либо известной фигурой делает возможным возвращение к доверительному: так страсти персонажа трагической пьесы пробуждают теплоту, ибо, при всей своей мучительности, это человеческие страсти. Подобного рода ориентиры отсутствуют у Рембо совершенно. Его старики – коллективная группа, и группа эта составлена из анатомических и патологических деталей, не из людей. От пространства – только несколько реликтов. Время действия… «всегда». Надо заметить, что Рембо на упомянутый Верленом повод (библиотека в Шарлевиле) даже не намекнул в своем стихотворении, – это слишком бы ориентировало в реальность. Сотворенная безмерность уродства не допускает никакого возвращения к доверительному, которое еще возможно при изображении ужаса. Деформирующая воля нового лиризма направлена в безотносительное.
Потому-то соотношение образного содержания поэзии Рембо с реальностью имеет только эвристическую ценность.
Внимательное наблюдение позволяет прийти к выводу, что понятия реальное – ирреальное бесполезны в данном случае. Другое понятие представляется более пригодным: чувственная ирреальность. Мы имеем в виду следующее: деформированный материал действительности отражается очень часто в таких вербальных группах, где каждая составляющая имеет чувственное качество. Однако эти группы соединяются столь анормальным способом, что из чувственных качеств возникает ирреальное образование [48] . Как правило, речь идет о вполне наглядных вещах. Но их не увидеть обычными глазами. Они далеко переходят предел свободы, предоставленный поэзии естественной метафорической потенцией языка. «Сухарь улицы»; «король, стоящий на собственном животе»; «сопли лазури» – подобные образы могут иногда сообщить острый динамизм конкретным и реальным качествам, однако они направлены не к действительности, нет, эти образы повинуются энергии разрушения, которая хотя и представляет невидимое «неизвестное», но, искажая формальные границы, сталкивая крайности, превращает действительность в чувственно воспринимаемую, напряженную неизвестность. Конечно, традиционная поэзия умела расширять восприятие, искажая реальный порядок вещей. Даже у Рембо можно отыскать нечто аналогичное. Красный флаг, к примеру, называется: «флаг из кровавого мяса». Реальный возбудитель образа, красный цвет, отсутствует, языковая тенденция тяготеет к метафорической жесткости. Однако данный случай эпизодичен, это лишь предвестие многочисленных образов чувственной ирреальности, которая, собственно, и является сценой взрывного драматизма Рембо.
«Мясные бутоны, расцветающие в звездных лесах»; «деревянные подошвы пасторалей скрипят в садах»; «городская грязь, красная и черная, словно зеркало, когда в соседней комнате кружится лампа», – это элементы чувственно воспринимаемой действительности, которые контракцией, растяжением, комбинаторикой вбрасываются в сверхдействительное. Подобные образы более не соотносятся с реальностью и сосредоточивают взгляд на акте своего творения, то есть на акте властительной фантазии. Понятие обозначает движущую силу дикта Рембо, делает бесполезным эвристический принцип соизмерения текста с реальностью. Мы в мире, действительность которого существует только в языке.
Властительная фантазия действует не пассивно и описательно, она предполагает неограниченную креативную свободу. Реальный мир расходится, распадается под вербальным влиянием субъекта, не желающего принимать откуда-то содержание, но желающего творить его. В бытность свою в Париже Рембо сказал одному из друзей: «Мы должны освободить живопись от привычки что-либо копировать. Вместо того, чтобы репродуцировать объекты, надо вызывать реакции и впечатления посредством линий, красок и очертаний, взятых из внешнего мира, однако упрощенных и схематичных: подлинная магия». Эта фраза была процитирована в качестве комментария к живописи XX века (каталог парижской выставки Пикассо, 1955). Справедливо, поскольку современную живопись, равно как и поэзию Рембо, нельзя интерпретировать предметно и объективно. Абсолютная свобода субъекта должна быть необходимо утверждена. Легко распознать, в какой мере теоретические соображения Бодлера подготовили поэтическую и художественную практику новой эпохи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу