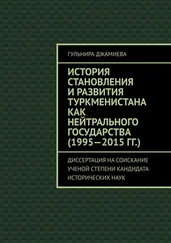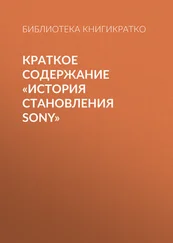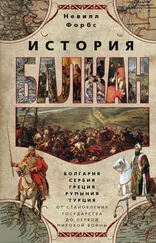Многие из тех, кто располагал властью уже во времена старого режима, сами того не зная, занимались геополитикой (английские власти заботились об установлении нерушимой морской гегемонии Британии, Ришелье старался поддерживать «разделение немцев», а члены Конвента призывали к установлению «естественных границ»; все эти идеи воплотились в жизнь лишь в XIX в., когда Германия поставила вопрос о своих границах и национальном самоопределении, а англосаксонский мир в историческом и политическом смыслах превратился в талассократию). Большая игра, в XIX в. сталкивавшая русских и британцев на протяжении всего обширного европейского театра, имела глубоко геополитическую природу: она представляла собой классическое противостояние между российской континентальной державой, протянувшейся от Польши до Тихого океана и от берегов Северного Ледовитого океана до Памира и Туркестана, и морской Британской империей, терпеливо, в течение нескольких столетий, стремившейся к господству на море и сумевшей использовать силы своего Королевского флота для того, чтобы ввязываться в столкновения в любой части света [93]. Нам известно, что это длительное противостояние продолжалось с переменным успехом: каждый раз, когда под угрозой оказывались турецкие проливы, Британия становилась защитницей «великого османского больного»; на Кавказе ее агенты поддерживали восставших – местных мусульман; в Средней Азии и Персии обе державы соперничали вплоть до заключения в 1907 г. договора, закрепившего их на ранее занятых позициях; на Дальнем Востоке подписанный в 1902 г. британско-японский морской договор был явно направлен против России, три года спустя побежденной азиатским противником…
Противостояние двух держав – континентальной и морской – подробно анализирует Хэлфорд Маккиндер. После смерти Ратцеля в 1904 г. и Мэхэна десять лет спустя, в тот самый момент, когда швед Челлен изобретает в 1916 г. термин «геополитика», он сформулирует объяснение глобального соотношения сил, среди которых важное место уделяет России. Будучи профессором Оксфорда, в котором он возглавлял Географический институт, директором Лондонской школы экономики и политических наук, адмиралом, депутатом-консерватором в палате общин с 1910 по 1922 г., президентом Королевской навигационной компании и Королевского экономического комитета, в 1919–1920 гг. на юге России он также занимал должность верховного комиссара во время британской и французской интервенции, сопровождавшей гражданскую войну между красными и белыми. Имея за плечами самый разнообразный опыт, он посмотрит на мир оригинальным для своего времени взором, который вскоре неизбежно приведет его к размышлениям о судьбе русского государства. В трех объемных текстах он опишет свое видение положения вещей: в 1904 г. в работе, опубликованной в Geographical Journal и названной «The Geographical Pivot of HiStory [94]», в 1919 г. в труде «Democratic Ideals and Realty in the Politics of ReconStruction» [95]и, наконец, в июле 1943 г. в объемном исследовании «The Round World and the Winning of Peace» [96], опубликованном в Foreign Affairs . Начиная с 1904 г. он формулирует свою теорию heartland [97]. Океаны занимают девять десятых поверхности земного шара, а Евразия – одну шестую; Америка и Австралия делят между собой остальное, и кажется естественным, что контроль над миром принадлежит тому, кто контролирует бóльшую часть суши, точнее – ее центральную часть, совпадающую с континентальной территорией Евразии. Точно так же в 1919 г. он придумывает понятие world island [98], описывающее положение Евразии вместе с Африкой. Евразийскому блоку на его окраинах противостоит «внутренний», или «пограничный», «полумесяц», inner crescent — Западная Европа, Ближний и Дальний Восток, Юго-Восточная и Восточная Азия; островные территории, расположившиеся между Британией и Японией, являются передовыми элементами «периферийного», или «внешнего», «полумесяца» – outer или insular crescent , включающего обе Америки и Австралию. Согласно Маккиндеру, эволюция истории определяется взаимоотношениями между морскими и континентальными державами, между центральной «осью» и территориями, относящимися к «периферийной» дуге. В равной степени Маккиндер настаивает на роли, которую сыграла техническая революция, сказавшаяся на развитии морского и наземного транспорта. «Доколумбовой» эпохой он считает время караванов, шедших по Великому шелковому пути. «Колумбова» эпоха связана с открытием мира Европой, начавшимся в конце XV в., и, в противоположность предыдущей, характеризуется преобладанием морского транспорта и расцветом торговли пряностями и рабами, отправляемыми через Атлантику. Наконец, «постколумбова» эпоха становится временем строительства железных дорог, вернувших континенту его былые преимущества; теперь они определяются скоростью передвижения, обеспечиваемой необходимым количеством лошадиных сил, и дальностью перемещений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
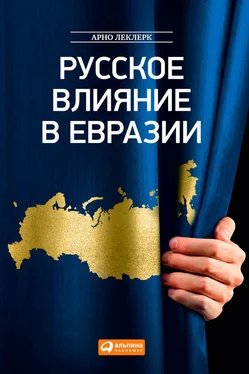


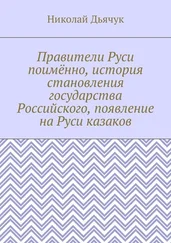
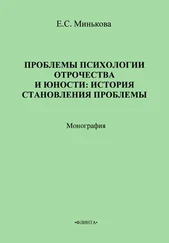
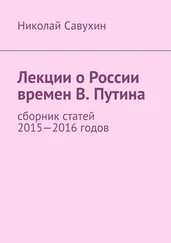
![Невилл Форбс - История Балкан [Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция от становления государства до Первой мировой войны] [litres]](/books/390301/nevill-forbs-istoriya-balkan-bolgariya-serbiya-gre-thumb.webp)