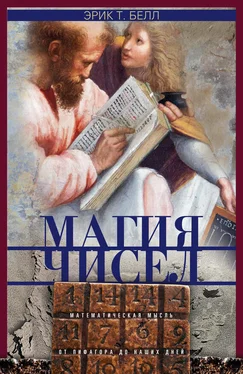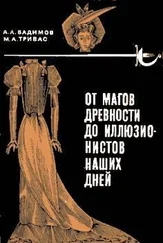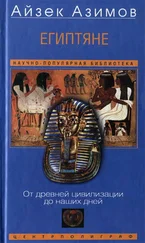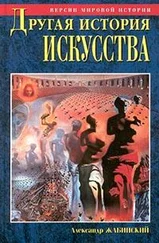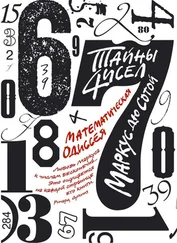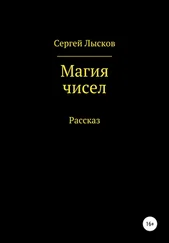Этот конечный вид достоверности возникает из метода дедуктивного умозаключения, существовавшего приблизительно двадцать три столетия от Платона и Аристотеля к Гёделю, который первый выдвинул (1931) неразрешимое утверждение. Философы Античности и их традиционные последователи Средневековья, похоже, стремились ко всемогущей логике, которая в конечном счете разрешает любую проблему либо положительно, либо отрицательно. Математические логики ХХ столетия показали, что по крайней мере в математике цели древних недосягаемы. Но усилия всех математиков и логиков от Фалеса до ХХ столетия по достижению недосягаемого ни в коем случае не являлись пустой тратой времени и мысли. Возникнув из признания Фалесом, что дедуктивное умозаключение одновременно возможно и полезно, и продолжившись в успешных попытках греческих математиков (от Пифагора до Платона) дать последовательный счет как рациональных, так и иррациональных «величин», поиск универсальной достоверности многое выявил из того, что представляет непреходящий интерес для философии не меньше, чем для математики. Столетия позже часть всего, что было открыто во времена культивирования познания ради самого познания, оказалось непреложным и необходимым одиноким труженикам на заре новой эры науки. Можно привести классический пример. Кеплер, возможно, никогда не определил бы орбиты планет как эллипсы (с Солнцем в едином центре), если бы ему была недоступна греческая геометрия конических сечений. Не имея в качестве ориентира законов Кеплера, описывающих планетарные орбиты, Ньютон никогда не предложил бы миру свой закон всемирного тяготения; а без закона всемирного тяготения Ньютона развитие астрономии, физики и современной технологии шло бы совсем не так, как последние два с половиной столетия.
Потрясающее открытие пифагорейцев, что не все числа рациональны (то есть выражение a/b, где a, b – целые числа), знаменует основной поворотный момент в развитии дедуктивного умозаключения. Это оказалось началом возникновения математических теорий непрерывности и бесконечности. Это также послужило поводом для появления значительно иной эпистемологии и пересмотра некоторых старых теорий познания; а в направлении современной науки теория греков о непрерывности подготовила путь к пониманию движения. Эта эпохальная веха в развитии математической и философской мысли столь значительна, что кое-что из ее истории может быть интересным.
После открытия, что квадратный корень из двух не является рациональным числом, греческие геометры доказали подобное для многих других квадратных корней. Во времена Платона существование иррациональных чисел (как мы сейчас сформулировали бы) занимало философов, которые только от случая к случаю интересовались математикой. В диалоге Платона «Теэтет» Сократ пытается добиться от Теэтета объяснения понятия «знание».
«– Наберитесь храбрости и смело скажите, что вы считаете знанием:
Набравшись храбрости, Теэтет отвечает.
– Думаю, что науки, которые я изучаю у Феодора [Киренского, славившегося в 380 году до н. э.], – геометрия и те, что вы сейчас упомянули, и есть знание. Я бы еще прибавил мастерство сапожника и других ремесленников. Все это – знание».
Понятно, что Теэтет не поскупился и включил слишком много в свой перечень, дабы угодить столь непреклонному экзаменатору, как Сократ, и философ вынуждает свою жертву признать, что тот так и не сумел сформулировать, что такое «знание» как отвлеченное понятие, и затем пытается вытянуть из него, что такое глина. Сократ, видимо, мучительно пытается заставить Теэтета уловить и понять, что универсальная глина – не эта глина и не та глина, а глина как Вечная идея, Форма, в которой простые конкретные глины изготовителей кирпичей и очагов, гончары и другие ремесленники в некотором смысле «участвуют». Сократа не интересует ни одна из них. Он ищет нечто универсальное, абстракцию, идею, и Теэтет довольно оптимистично решает, будто постиг суть. В ответ на вежливую просьбу Сократа он делится с ним:
– Феодор выписал нам кое-что относительно [квадратных] корней, таких как 3 или 5, показывая, как в линейном измерении (то есть согласно сторонам квадратов) они несоизмеримы с единицей. [В нашей терминологии квадратные корни из 3 и 5 – иррациональные числа.] Он выбрал числа, которые являются корнями вплоть до 17, но дальше он не пошел. Поскольку имеются неисчислимые корни, мы задумали объединить их всех под одним названием.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу