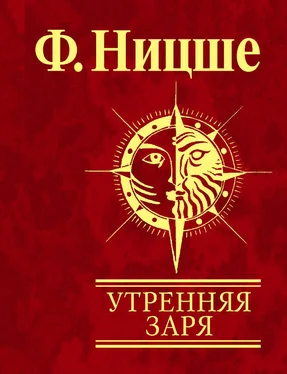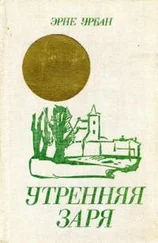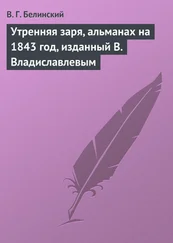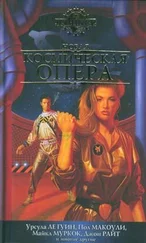Мнимое «выше». Вы говорите, что мораль сострадания выше морали стоицизма? Докажите это! Но заметьте, что моральные понятия «выше» и «ниже» нельзя мерить моральным аршином, так как нет абсолютной морали. Итак, берите масштаб какой-нибудь другой!
Похвала и порицание. Если война закончена неудачно, то ищут «виновника» войны; если война кончается успехом, то хвалят ее зачинщика. Всегда ищут «вину» там, где есть неуспех, так как он приносит с собою уныние, против которого невольно применяется единственное средство: новое возбуждение чувства власти , а оно находится в осуждении виновного. Этот виновный – не козел отпущения, он жертва слабых, упавших духом, впавших в уныние, которым на чем-нибудь хочется показать, что они имеют еще власть и силу. Для того, чтобы после поражения доставить себе чувство власти и силы, можно осудить даже себя самого! Наоборот, прославление виновника успеха часто бывает слепым следствием другой страсти, желающей иметь свою жертву, и на этот раз самому жертвенному животному жертва кажется сладкой и заманчивой, именно если чувство власти в народе или в обществе переполнено большим чарующим успехом, и наступило утомление победой, то начинают отказываться от своей гордости; подымается чувство преданности и ищут его объект. Порицают нас или хвалят , мы служим при этом обыкновенно поводом и очень часто поводом произвольно выбранным, дающим возможность нашему ближнему излить клокочущую в нем страсть порицания или похвалы: и в том и в другом случае мы оказываем ему благодеяние, которое не является заслугой с нашей стороны и не вызывает благодарности с его стороны.
Красивее, но менее ценно. Художественная мораль – это мораль быстро вырывающихся аффектов, крутых переходов, патетических, сильных, страшных, торжественных движений и звуков. Это полудикая ступень морали: не позволяйте же ей соблазнить себя эстетическими чарами и не ставьте ее высоко.
Сочувствие. Для того чтобы понять другого, т. е. для того, чтобы воспроизвести в себе его чувство, мы часто стараемся отыскать причину того или другого возникшего в нем чувства. Например, мы спрашиваем: чем он опечален? – для того, чтобы представить себе ту же причину и воспроизвести в себе то же чувство печали. Но чаще мы опускаем это и воспроизводим в себе чувство по тем действиям, которые оказывает оно на другого, воспроизводя выражение его глаз, голоса, походки. Тогда в нас возникает подобное же чувство, вследствие ассоциации движений и ощущений. В этой способности понимать чувства другого мы ушли очень далеко, и почти непроизвольно, в присутствии человека, мы упражняемся в этой способности. Всмотритесь только в игру черт женского лица, как оно все дрожит и изменяется от непереставаемого подражания и отражения того, что совершается, чувствуется и ощущается вокруг нее. Но яснее всего показывает музыка, какие великие мы мастера в быстром и тонком разгадывании чувств и в сочувствии: музыка есть воспроизведение чувств, и, однако, несмотря на эту отдаленность и неопределенность, она заставляет нас участвовать в них, так что мы становимся печальными без малейшего повода к печали, как настоящие умалишенные, только потому, что слышим звуки и ритмы, которые как-нибудь напоминают голоса и движения печалящихся. Рассказывают о датском короле, что музыка какого-то певца так настроила его на воинственный лад, что он вскочил и тут же убил пятерых придворных: не было войны, не было врага, но сила, приводящая от чувства к причине, оказалась так сильна, что одолела и очевидность, и рассудок. Но именно почти всегда действие музыки таково, и чтобы понять это, нет надобности в таких парадоксальных случаях: состояние чувства, которое заставляет нас испытывать музыка, стоит почти всегда в противоречии и с очевидностью нашего действительного положения и с рассудком, который сознает это действительное положение и его причины.
Если спросить, почему воспроизведение в себе чувств другого для нас так легко, то в ответе не может быть никаких затруднений: человек, будучи самым трусливым из всех тварей, благодаря своей тонкой и хрупкой природе, имел наставницей того сочувствия, того быстрого понимания чувства другого (даже животного) – трусость . В течение многих тысячелетий он видел в каждом незнакомом ему одушевленном предмете опасность, при одном только взгляде на него он тотчас же воспроизводил в себе выражение черт его лица и его манеры, и по этим чертам и манерам он делал заключения о его злом или добром намерении. Это толкование намерений по движениям и линиям человек применил даже к неодушевленной природе, воображая ее одушевленной; я уверен, что те ощущения, которые мы испытываем при виде неба, леса, скалы, реки, моря, звезд, весны и т. п., имеют такое именно происхождение. Радость и приятное удивление, даже чувство смешного, должны быть признаны позднейшими детьми сочувствия и младшими братьями страха. Способность быстро понимать, которая, таким образом, покоится на способности быстро становиться на место другого, уменьшается у гордых самостоятельных людей и народов, потому что они испытывают меньше страха; наоборот, все трусливые и забитые быстро все понимают и могут стать на место другого; здесь также надобно искать настоящую родину подражательных искусств и в высшей интеллигенции. Если после той теории сочувствия, которую я здесь изложил, вспомнить об излюбленной теории мистического процесса, в силу которого сострадание делает из двух существ одно и этим путем облегчает одному непосредственное понимание другого. Если вспомнить, что такая светлая голова, как Шопенгауэр, находил удовольствие в такой сумасбродной, ничего не стоящей болтовне и заразил этим другие светлые и полусветлые головы, то я не могу достаточно надивиться им и достаточно сожалеть о них. Как велика, должно быть, у нас страсть к непонятной бессмыслице! Как еще близко стоит человек к сумасшествию, если он прислушивается к своим таинственным интеллектуальным желаниям. (За что, собственно, чувствовал себя Шопенгауэр так благодарным, так глубоко обязанным
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу