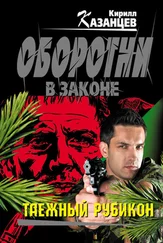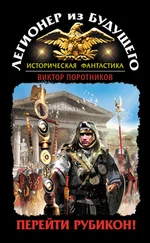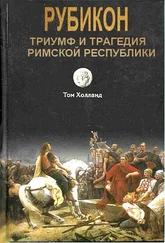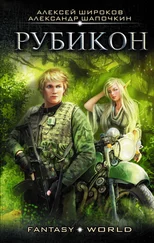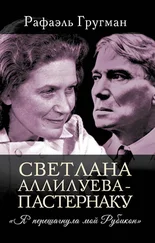В одной из своих статей он доказал, что оккупации Латвии в 1940 году не было. Была инкорпорация, что предполагало совершенно иные правовые последствия. К этому он добавил, что Россия и Советский Союз – это империи наоборот: в метрополии люди всегда жили хуже, чем в колониях. Кто кого кормит – это еще вопрос. От развала Союза выиграет только Россия.
После этой статьи ему пришлось уйти из университета.
В другой статье он поиздевался над только что принятым законом о государственном языке. Его стали узнавать на улице.
Потом он написал статью «Коричневый соблазн песенной революции», предвидя шествие престарелых латышских легионеров 16-й дивизии Waffen SS и их фанатов по улицам Риги.
Это был конец.
Но тогда же он понял и другое – если в эпоху перемен тебя нет на страницах газет или на экране телевизора, то тебя нет вообще.
Он хорошо помнил свою последнюю лекцию в университете. Зал поднимался вверх наподобие амфитеатра. В сводчатые окна светило осеннее солнце. Он сел за квадратный стол, игнорируя трибуну. Несколько девушек в первом ряду вызывающе раздвинули ноги, и это заставило его встать и пересесть на подоконник.
Он не питал особого уважения к тому, что преподавал, но, несмотря на это, студенты толпой валили на его лекции.
В этот раз зал был переполнен. Те, кому не хватило мест, стояли в проходах и толпились у двери.
Он понимал, что читать лекцию не получится. Всех интересует одно – что будет? Он знал. Но не знал, как об этом сказать.
Студенты терпеливо ждали.
«Успех того или иного общества, – начал он, глядя в зал, – зависит главным образом от его институционального выбора. Что такое институты, вы знаете. Это установленные нормы, правила и ограничения. Дуглас Норт приводит такой пример. В XVI веке Англия и Испания шли вровень. Но потом Испания отстала и отстала навсегда. Почему? Была допущена ошибка, которую Норт назвал «ошибкой первоначального институционального выбора». В Испании налоги попали в руки короля, а в Англии – в руки парламента. Так сложилось. Но этого хватило, чтобы позже весь мир заговорил по-английски, а не по-испански».
Никто ничего не записывал, было лишь несколько включенных диктофонов. Он не любил, когда за ним записывают, и студенты это знали. Они слушали.
«Заметить институциональную ошибку очень сложно. Вначале все кажется правильным. Но потом мир вокруг начинает рушиться. Чтобы исправить ситуацию, требуются не годы, а столетия.
Скоро наша республика выйдет из состава Союза, и нам предстоит сделать свой институциональный выбор после сорока лет социализма. Думаю, мы сделаем его неправильно. По крайней мере, я не вижу ни одной здравой идеи. Из нас опять сделают санитарный кордон против России. Институты мы будем создавать по лекалам Германии, но ничего, кроме тотальной коррупции, не получим. Латвия станет не балтийской Швейцарией, о чем постоянно говорят, а всеевропейским хосписом. Многие из вас уедут. А те, кто останется, будут подтирать немецким пенсионерам… задницу».
Он чуть было не сказал – «жопу».
В перерыве он качался на стуле и смотрел в окно. Голые черные ветви деревьев жестикулировали на ветру, как пьяные попрошайки. Было грустно. Отношение к нему студентов значило для него намного больше, чем он готов был признать.
Думая о своем, он не заметил, как в аудиторию тихо зашел заведующий кафедрой. «Только что собрали ученый совет, – сказал он, – будут решать, что с тобой делать». И, столкнувшись с равнодушным взглядом, добавил: «Это твоя жизнь… Как задумал, так и действуй. Запрет на профессию – это своего рода орден за заслуги перед отечеством».
После перерыва в дверях появился декан. За ним маячила фигура заведующего учебной частью. Оба кесаря взобрались на задний ряд, им уступили место, и они сели. Видимо, совет университета только что внес его в проскрипционные списки.
Тем не менее вторая часть лекции вполне удалась.
«Поведение общественных систем непредсказуемо в принципе. То и дело возникают точки бифуркации. В таких точках небольшой толчок в заданном направлении может привести к изменениям библейского масштаба. Октябрь 17-го был точкой бифуркации для Российской империи. Большевики взяли власть голыми руками. Летом 18-го их не поддерживал никто, кроме латышских стрелков. Так что Россия тоже может предъявить нам счет. Стрелков было не больше тридцати тысяч, включая моего деда, – раздался смех, и он еле успокоил аудиторию. – Давайте продолжим. Так о чем мы? О том, что «mazs cinitis gaz lielu vezumu» [5] … маленькая колдобина опрокидывает большую телегу (лат.).
. По моим расчетам, точкой бифуркации для Советского Союза станет август–сентябрь 1991 года. Из Союза выйдут все союзные республики, и мы перестанем быть исключением. О нас просто забудут».
Читать дальше
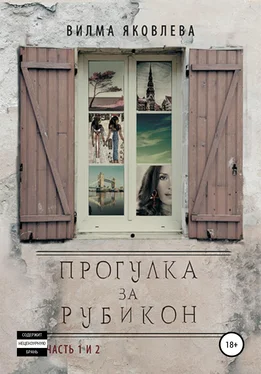
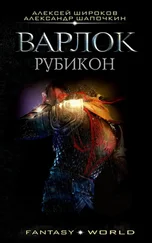
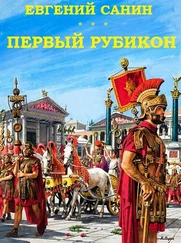
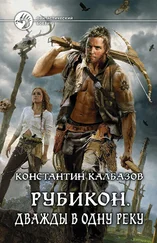
![Константин Калбазов - Рубикон 2. Дважды в одну реку [черновик СИ]](/books/122223/konstantin-kalbazov-rubikon-2-dvazhdy-v-odnu-reku-thumb.webp)