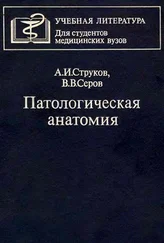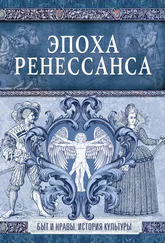свою самооценку за его счёт,
он не читал ту чушь, которую они писали,
напрасно ожидая его ответной реакции.
А ещё он частенько вспоминал
забытый всеми рассказ Шукшина «Срезал»…
Совсем недавно ему пришлось проезжать
через полустанок своего детства,
он долго стоял в коридоре вагона,
пытаясь пробудить добрые воспоминания,
смотрел на яркий одинокий фонарь,
дождь моросил на голый пустой перрон,
вагон уплывал в холодный осенний мрак,
но так ничего и не ворохнулось
в его сонной усталой душе,
всё местное было оплёвано и выжжено дотла —
осталась только лёгко саднящая досада
на самого себя, нынешнего:
«Прости, отпусти, забудь, хватит…»
Но как можно было забыть
все эти изгибы причудливой судьбы,
ошибки и победы, промахи и удачи,
свои первые наивные чувства,
неосмысленные желания плоти,
как вообще можно было забыть
все разные степановские «я» —
сколько их было уже, этих его ипостасей,
объединённых одним паспортом?
Именно она, эта горькая память
о пережитых в юности трудностях,
всегда злила Степанова и двигала вперёд,
придавая ему новые свежие силы жить.
Утром он сдал бельё проводнице,
вышел на знакомый вокзальный перрон,
прищурился на яркое осеннее солнышко
и радостно улыбнулся ему, как родному —
чёрт знает, который уже по счёту,
но Степанов всё-таки был ещё жив,
и по крайней мере одна дорога
нетерпеливо ожидала его сейчас.
И верилось ему только в одно —
что жизнь его будет вечной,
что где-то на конечной станции
ждут Степанова не черти и не ангелы,
а отдых, ремонт, апгрейд, дозаправка
и очередной неизведанный маршрут.
Ах, какое жаркое, сочное,
зелёное и весёлое стояло лето
в том далёком восемьдесят втором,
когда случилась со Степановым
дурацкая история,
гордиться которой,
наверное, совсем не пристало.
Приехал Степанов тогда
из своего таёжного посёлка
в огромный шумный город
поступать на экономиста.
Экономистом он до этого
быть вовсе не собирался,
любил литературу и историю,
хорошо знал английский,
присматривался к профессии педагога,
но как-то не очень-то и всерьёз,
считая по совету отца любой диплом
лишь трамплином для стремительной карьеры
какого-нибудь совпартработника.
Когда наступило время
принимать судьбоносное решение,
Степанов потащился в областной центр
подавать документы в политехнический,
почему-то решив, что стране
не хватает инженеров-строителей,
а папа, главный советчик,
будучи по своим делам в командировке,
зачем-то попёрся туда вместе с ним.

Фото из архива автора
Разомлев и одурев от жары,
вылезли они в тот день из трамвая,
на остановку раньше, чем нужно —
завидев бочку с квасом.
Пока пили холодный вкусный квас,
разглядели невдалеке за деревьями
высокое здание с вывеской
«Институт народного хозяйства»,
из дверей которого то и дело выходили
молодые симпатичные девушки.
Папа решительно нахмурился,
выпятил челюсть, втянул живот,
и уверенно потащил сына на зов природы,
то есть в приёмную комиссию,
где весёлая загорелая щебетунья-очаровашка
в весьма легкомысленном платьице
начала с ходу строить папе глазки
и через пять минут так обаяла его,
что тот скомандовал Степанову
сдавать свои документы именно туда,
куда насоветовала ему эта добрая фея.
Набегавшись за день по жаре,
Степанов с ужасом подумал о том,
что надо будет тащиться
ещё неизвестно куда и зачем,
поэтому вздохнул про себя,
попрощался с дивной мечтой
строить «голубые города»,
о которых так красиво пел Эдуард Хиль,
и безропотно покорился судьбе.
На вокзал возвращались молча.
Папа был заметно рад тому,
что вопрос с поступлением сына
уладился так легко и приятно.
– Какая… эээ… спортивная девушка! —
сказал он задумчиво, со светлой печалью
глядя куда-то в пространство.
И с заметной завистью добавил:
– Как же тебе повезло!
Ты даже не понимаешь…
В СССР, как теперь известно,
слов «секс» и «эротика»
тогда ещё не знали, а потому
занимались любовью
бессистемно и безалаберно,
используя для названия процесса
Читать дальше