Вытерев полотенцем лицо и руки, Чалышев надел новую из белого холщового материала гимнастерку с большими, как у френча, накладными карманами, перетянулся ремнем с изящной кобурой, в которой лежал браунинг, несколько раз провел по отдающим глянцем, начищенным сапогам бархоткой, снял с вешалки форменную фуражку с лихо заломленным козырьком и вышел из дома.
«Что там у них стряслось? Что за важный вопрос?» — Он поймал себя на мысли, что не может уже не делить все на «у нас» и «у них». Усмехнувшись, подумал: Скоро только «у нас» будет все и почувствовал, как в сердце вползает тревога. Это потому, что от Токсамбай до сих пор нет никаких известий. Правда, Саттар рассказывал, что у него засекся на переднюю ногу конь, и Токсеке почти на сутки позже, чем намечалось, выступил с отрядом на Лесновку.
Еще два-три дня, всего два-три. И тогда можно будет не опасаться больше за каждый свой шаг, не вздрагивать от любого вкось брошенного взгляда Думского или Крейза, от какой-нибудь мельком услышанной новости и думать: «А не провал ли это уже? Скоро», — Чалышев сжал зубы. На щеках у него набрякли желваки. — Скоро за страхи, что приходится ему испытывать, за унижения, за грязную, обшарпанную комнату, которую вынужден снимать у паршивой хозяйки, за плов, который она не умеет варить, как положено, за все, за три года, вычеркнутые из жизни, пока командует здесь, в этом проклятом богом Джаркенте десятком милиционеров и ничего хорошего не видит, ничем не пользуется, даже погулять открыто не может, он спросит сполна и с Крейза, и со всех его дружков «большевичков милых».
Жажда мести, близкая возможность привести ее в исполнение жаркой волной подступила к сердцу, согрела. Настроение поднялось. Тревога исчезла, и улица вдруг показалась широкой, прямой. Она будто повисла в воздухе, собирая кронами карагачей наступающие вечерние сумерки.
И в этих сумерках навстречу, нагая и быстрая, словно метель, кинулась Маша и в самое последнее мгновение ускользнула, обдав свежестью. Чалышев даже приостановился на мгновение от сладкой до дрожи истомы и мягко улыбнулся.
С этой улыбкой и вошел он в кабинет к Крейзу, и сел на первый попавшийся стул у двери.
— Сюда прошу, — указал ему председатель ЧК на свободное место вблизи от своего стола. Его обычно занимал Думский. Сейчас Савва почему-то отсутствовал.
Заседание, видимо, началось давно. В открытое окно уползала стена махорочного дыма. Смоченные водой окурки коричневыми, почти черными шматками плавали в блюдцах, и в тарелке, подставленной под графин.
Пока Чалышев усаживался на указанное ему место, председатель совдепа Овдиенко, выступление которого он прервал своим появлением, неодобрительно покашливал. Затем с горячностью заговорил снова. Чалышев вначале не мог понять, о чем он ведет речь. Потом понял, что Овдиенко рассказывает про баню. Жалуется секретарю укома Ивакину, что кто-то спускает мыльную воду в арык, и она растекается по улице. От нее здорово воняет… И вообще это ни к дьяволу не годится, это сплошная зараза, и необходимо принимать самые решительные меры. Не закончив разговора о бане, Овдиенко перескочил на полив огородов, стал доказывать, что мирабы в этом деле своевольничают, берут взятки за поливы и тем самым дискредитируют советскую власть.
— Между прочим, за баню и на тебе, Чалышев, лежит большая доля вины, — прервал Крейз словоохотливого Овдиенко. — Миндальничаешь, не следишь, не штрафуешь этого Мирзоева (Баня в Джаркенте была частная). Он и распоясался.
Чалышев, кивнув в знак согласия, достал записную книжку и, пряча в холеной скобке усов насмешку, сделал вид, будто записывает в нее о бане, сам же с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Жить-то им всем остались считанные дни, а они, на тебе, о бане речь ведут, о мыльной воде!»
И Чалышев уже с веселым удивлением разглядывал склонившегося над бумагами Крейза. Ему показалось вдруг, что тот двинул ушами.
«Как ишак», — подался вперед Чалышев не в силах уже отвести взгляда от покрытых сероватым пушком на мочках больших некрасивых ушей председателя ЧК. Но уши не шевелились больше. Кто-то зажег лампу. Комната стала просторнее, но неуютнее. Было душно. Сбоку вплотную притерся здоровяк Алпысбаев. От него пахло чесноком, и это стало раздражать, хотелось отодвинуться, но с другого бока развалился пышущий жаром коренастый и сильный, как вол, Джатаков. Он сидел, словно глыба, молчаливый, собранный и невозмутимо курил.
— Ладно, — пробасил из дальнего угла отошедший зачем-то туда Ивакин. — Развели канитель с баней. Сказал, улажу — и все, не за этим собрались.
Читать дальше
![Залман Танхимович Опасное задание. Конец атамана [Повести] обложка книги](/books/400775/zalman-tanhimovich-opasnoe-zadanie-konec-atamana-cover.webp)
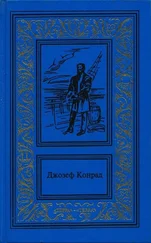


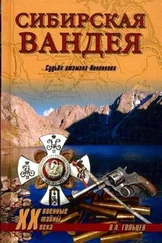


![Василий Сахаров - Сын атамана [publisher - МедиаКнига]](/books/414756/vasilij-saharov-syn-atamana-publisher-mediakniga-thumb.webp)
![Владимир Богомолов - Особое задание [Повести и рассказы]](/books/434499/vladimir-bogomolov-osoboe-zadanie-povesti-i-rassk-thumb.webp)



