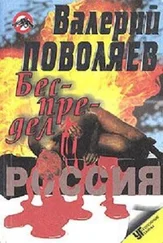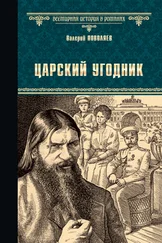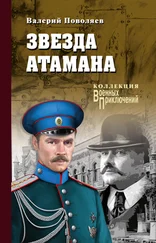Луг, что маячил-блазнился перед глазами, посерел, пожелтел, будто попал под холодный осенний дождь. Всё желтым-желто, печально и, несмотря на спелую сытую желтизну, яркие краски, пасмурно. И не луг это вовсе, а огород. Где-нибудь в дачном местечке под Ленинградом, каких полно было до войны и откуда сейчас бьют гитлеровцы из тяжёлых орудий. Вон подсолнухи растут, высокие, как деревья, большими плоскими шляпами крутят из стороны в сторону, словно напоказ себя выставляют. Головы огнём горят, желты, словно; одуванчики, хотя цвет их уже вялым сделался, лепестки на шляпах поникли, свесились вниз, словно старая обтрепавшаяся бахрома.
А вон живокость вверх тянется, стебель высокий, одеревеневший, растение это с синим факелом схоже, грустит, думает о чём-то своём, одному только ему и известном, — возможно, к дождю либо к первому, ещё неурочному, раннему снегу готовится: застыла живокость, выпрямилась, будто в стебель её воткнули жёсткий прут и пригвоздили к земле. Всё холода боится — и человек, и зверь, и растение, и злак, и дерево, всех тоска одолевает при мысли, что предстоит коротать зиму, противостоять стуже.
И не луг это, абсолютно точно, не луг — какая же живокость может на лугу среди пырея, дикого клевера и медуницы расти? — огород это, самый настоящий огород!
К огородам Каретников относился, мягко говоря, кисло, — оскомину и даже зубную боль эти единоличные хозяйства у него вызывали. Он готов был справлять любую городскую работу, любое дело, даже самое пыльное, тяжкое, но только не деревенскую — скулы сводило от одного вида лопаты и граблей.
Снова зябко повёл плечами — чего это ему все чудится лето? Вгляделся в темень — где же он находится, по какому переулку идёт? Раньше тут всё было огорожено нарядными заборами, цветы цвели — не Васильевский остров, а дачное место: сараюшки, хозяйственные хибарки разные стояли, а сейчас всё подобрано, всё на корм огню пошло; подметено, будто веником; земля голая, сиротская, трещит-пошевеливается на ней снеговое одеяло.
А может, не одеяло это трещит, может, сзади уже идут по каретниковскому следу: почуяли «вороны» хлеб и теперь спешат, тянутся, чтобы разнести-разорвать бывшего ранбольного, убить, что угодно с ним сделать, но хлеб отнять и тут же на морозе, задыхаясь, глотая слёзы, давясь, съесть.
Задержал в себе дыхание Каретников, прислушался: не скрипит ли действительно сзади снег, нет ли чьих-нибудь шагов? Нет вроде бы — только собственные сапоги давят тропку, скрип под подошвами несмазанный, резкий. А Васильевский остров действительно не узнать — не чета довоенному. Помяло его, потрепало, всё лишнее, да и не лишнее тоже — снесло.
Вроде бы до Голодая рукой подать, а оказывается, далеко. Как же он так не рассчитал, а? Обидно будет замёрзнуть где-нибудь в сугробе с буханкою хлеба за пазухой. Не дойдя до матери…
Мама, мама. Что может сравниться в мире с нею? Когда нам бывает трудно, от боли останавливается сердце, нет никаких сил жить — полностью выкачался человек, самого себя наизнанку вывернул, — то кого мы вспоминаем, кого зовём на помощь? А во сне, в бою, либо в окопах, когда приходится коротать время либо спасаться от артобстрела, кого видим?
Вдруг он услышал скрип — резкий, короткий, — такой звук истязаемые морозом сугробы издавать не могут: несмотря на боль и муку, они всё-таки пытаются сдерживать свои крики, да и голос у них более затяжной и более тонкий, нежный, что ли, даже не голос это, а шёпот, тихий треск, вздох — а тут… Значит, верно, значит, прав был Парфёнов: учуяли хлеб «вороны» и пошли следом. Через несколько минут обложат Каретникова кольцом, и ни за что выскользнуть ему из этого кольца не дадут.
Он остановился. Оглянулся, Тихо. Только ветер шумит, воет голодно, обречённо, перемещает пласты снеговой перхоти с места на место — никакого скрипа. Хотя нет — что-то шумнуло вон там в сугробе, вызвало мимолётную душевную оторопь: это сугроб, пробитый морозом, раскололся пополам, и в ломину с тихим, сухим, хорошо слышимым треском посыпалась снежная крупа.
В следующий миг ему показалось, что в плотной черноте пространства он увидел зелёный недобритый промельк — словно бы волчий глаз сверкнул. Но не глаз это, а фосфоресцирующий плоский кружок, прицепленный к пальто преследователя. Передвинулся кружок с места на место и исчез. Может, это только показалось, игра всего-навсего, причуды воспалённого воображения, сон, мимолётное забытье, а? И нет никакого волчьего глаза вовсе? И никто его не преследует, а? Напрягся Каретников, застыл в охотничьей стойке и в ту же минуту снова уловил звук. Вначале слабый, а потом, почти впритык, раздражающе-резкий, тяжёлый… Сомнений не было — за ним шли. И, быть может, даже не один человек — шаг вон какой тяжёлый. Мороз сразу сделался каким-то пустым, щемящим — детская игрушка этот мороз перед опасностью, которая грозила сейчас Каретникову. Эх, наган бы ему в руки — испытанное боевое оружие. Но в госпиталь он поступил без оружия, даже кобуру с ремнями сняли — не нужен наган человеку, который между тем и этим светом находился, в окопах нагану место, — и из госпиталя его, соответственно, чтобы соблюсти сумму слагаемых, выписали без оружия, — вот он и вывалился из тёплой конуры голеньким на снег. Единственное оружие, если придётся отбиваться, — собственные кулаки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу