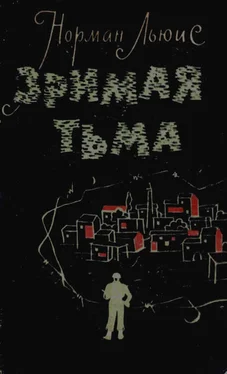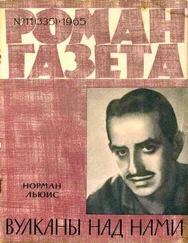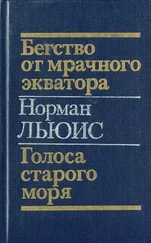Женщин было пять. Они вытряхнули воду из рукавов и забрались в машину. Троих я кое- как затолкал на заднее сиденье, под тент, а двоих усадил рядом с собой. Они заполнили машину узлами и младенцами и принесли с собой тяжелый запах дыма и лежалого хлеба. Едва разместившись, женщины сняли чадру. Рядом со мной устроилась хорошенькая девочка лет четырнадцати, с каким-то забавным выражением глаз; они напоминали цветную иллюстрацию с расплывшимися красками: голубые, с какими-то странными зрачками.
— Куда вы направляетесь? — поинтересовался я.
— В Либревиль, — ответила одна из сидевших позади арабок.
— И долго вы здесь ждали?
— Вчера весь день и сегодня с утра. Колонна не остановилась, — отозвалась та же женщина, выговаривая французские слова со старательностью школьницы.
Это казалось невероятным, я не мог понять, как перенесли такое испытание маленькие дети. Обрадованные удачей, женщины возбужденно щебетали и кудахтали по-берберски. Всякий раз, уловив мой взгляд, сидевшие рядом со мной девушки отвечали на него быстрой, застенчивой улыбкой. Из-под джеллаба были видны мокрые платья из дешевого, крикливого шифона и бусы из янтаря.
Мы проезжали теперь неглубокое ущелье, где заканчивались пятьдесят километров безопасного пути через зону, умиротворенную усилиями полковника Латура. Насыщенный сыростью туман окутывал холмы по обеим сторонам дороги, и они казались кучами мокрой ваты. Именно с этих холмов феллахи спускались на равнины с другой стороны перевала. Видимость не превышала ста метров. Сквозь завесу дождя я разглядел зубчатые очертания скал, вывернутых из земли какими-то геологическими катастрофами, — скалы высились беспорядочными грудами среди черных, рельефно выделяющихся пиков, между которыми лежали заросшие елями долины. Французы уже не раз натыкались здесь на засады. Особенно страшный случай произошел месяца три назад, когда в момент посадки в автобус был полностью уничтожен французский патруль, возвращавшийся в казармы. Ржавое шасси, с которого были сняты все детали, до сих пор валялось на обочине среди валунов.
Я начал отсчитывать повороты. Их было двадцать три, и если феллахи где-нибудь и поджидали меня, то уж, конечно, за одним из них. Забыв о своих пассажирках, я внимательно наблюдал за дорогой через два ясных треугольника, протертых стеклоочистителями на ветровом стекле.
Двадцать один… Двадцать два… Двадцать три! Дорога перешла в отлогую кривую, спускающуюся к равнине. Я с облегчением нажал на педаль акселератора.
Стрелка спидометра, качаясь, поползла к ста десяти. Примолкнувшие на перевале женщины снова защебетали. Что-то заставило меня подумать, что они болтают обо мне; я на секунду оторвал глаза от дороги и посмотрел на сидевших рядом девушек. С их лиц глянуло Средневековье. Ничто не волновало этих людей — еще полторы тысячи лет назад все проблемы решил за них погонщик верблюдов из Мекки. Девушки встретили мой взгляд милостивыми улыбками юных монахинь.
— Что вы делали в горах в такую погоду? — спросил я и сразу же сообразил, что задаю весьма опасный вопрос: женщины наверняка носили продукты феллахам.
— Работали в поле, — тихим голосом волнующейся ученицы ответила сидевшая позади меня женщина.
Ответ казался резонным. В те дни часто встречались арабки, добиравшиеся на попутных машинах до своих крохотных кусочков земли на склонах гор. Меня, однако, удивило, что все они сняли в машине чадру. Очевидно, их научили этому феллахи.
— А теперь все кончилось. — В голосе женщины послышалось сожаление, как у ребенка, сломавшего игрушку.
— Вы хотите сказать — до начала сбора урожая?
— Нет, совсем. Мы бросаем поля. Халлас, — добавила она по-арабски. — Халлас!
Ужасное значение этого слова, означающего «конец всему», полную безнадежность, известно, вероятно, всем европейцам в Северной Африке; ни в одном языке нет более сильного слова с тем же значением.
— Это как же?
— Война! — Женщины дружно вздохнули и закачали головой.
— Война? Но тут же никто не воюет. Ваши поля находятся в зоне Эль-Милии, не так ли?
Но на женщин не действовали никакие утешения.
— Война! — тихо причитали они. — Война! Мы не сможем теперь бывать на наших полях. Как же мы прокормим детей, если не сможем возделывать поля?..
Война не раз свирепствовала в этих краях, не раз зарастало, рушилось, обрекалось на запустение все, что возделывалось и воздвигалось трудом человека. Однажды в августе, после столетия навязанного победителями мира, арабские батраки восстали и расправились со своими белыми владыками. Вооруженные вилами, серпами и старинными ружьями, они уничтожили всех европейцев, зарезали их скот, сожгли дома. Словно рабы Спартака, они восстали, чтобы уничтожать и быть уничтоженными. И никто не задался вопросом, никто не пытался установить и, следовательно, никто никогда не узнает, что заставило этих крестьян, таких же мирных, трудолюбивых, уважающих законы, умеющих довольствоваться малым, как и все крестьяне на свете, — что заставило их жертвовать собой в этой оргии смертельной ненависти и мщения. К вечеру появились танки и самолеты. Уцелевшие арабы скрылись в горах, а оставшиеся в живых европейцы, бросая земли, бежали в Либревиль и Эль-Милию. Теперь границы между полями заросли травой, одичавшим виноградом; сквозь дымку дождя я видел желтые пятна полевых цветов.
Читать дальше