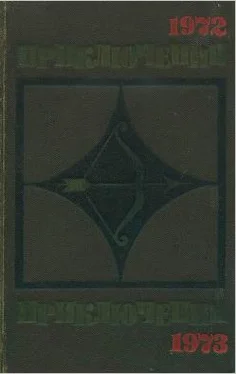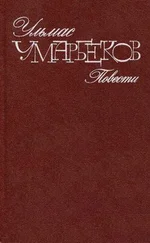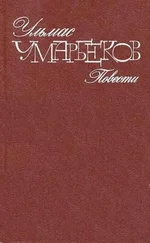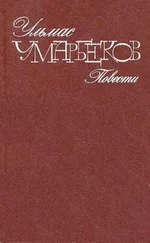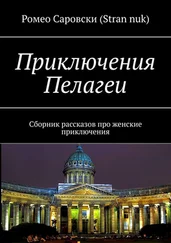— Никуда оно не входит, — сказал Потапыч. — Счастье — это свобода, равенство, братство, материальное благополучие. А если это цель, то ее в разных условиях можно достигать разными путями, и эволюция тут ничем не хуже. К тому же при ней меньше затрат, меньше погибает людей и культурных ценностей.
— Оппортунист ты, Потапыч, — сказал Стас. — Да сколько ждать-то ее, твою эволюцию? Раз одни могут ждать до упаду, а другим остается лишь с голоду дохнуть, выход один — революция. Она-то и дает и счастье, и свободу, и равенство, и братство.
— Поглядите-ка, братцы, в угол, только не очень пристально, — прервал их спор сидевший лицом к двери Климов.
Стае, сделав вид, что хочет позвать полового, оглянулся, потом тоже будто бы за этим, помахав рукой, обернулся Потапыч. За столиком около двери сидел Гонтарь и уныло прихлебывал пиво. Заметив глядевших на него товарищей, он едва заметно покачал головой. Они отвернулись. Климов, у которого осталась возможность наблюдать, комментировал.
— О, — сказал он, — ребята, а ведь он знаете кого «ведет»? Клембовскую!
В дверь трактира действительно вышла Клембовская в сопровождении женщины лет пятидесяти в длинном платье и шляпке. Через секунду исчез и Гонтарь.
— Значит, Клейн установил за ней наблюдение, — сказал Климов.
— Но почему наших на этих делах используют?
— Начальник знает, что делает, — ответил Стас. — У ребят из других бригад тоже дел по горло.
Возвращаясь в управление, они зашли во двор и обнаружили там спортивные состязания. Филин боролся около конюшни с рослым парнем из третьей бригады. Филин зажал противника двойным Нельсоном, потом перебросил через себя и после недолгого сопротивления припечатал лопатками к траве. Во дворе стоял закрытый экипаж для перевозки заключенных. У дверец томились двое охранников, а в помещении бригады за своей перегородкой Клыч кого-то допрашивал. Скоро стало ясно, что начальник допрашивает Тюху.
— В ограблении и убийстве Филипповых? — спрашивал голос Клыча.
— Было дело, участвовал, — солидно соглашался Тюха, — это, гражданин начальник, как на духу.
— Ладно. Налет на лавку потребкооперации в Жорновке?
— Ни единым пальцем. Это мне, начальник, не клей.
— Значит, Ванюша руководил?
— Как есть он.
— Пал Матвеич, — с укоризной говорил Клыч, — ты вот твердишь, что в бога веруешь. А по библии врать-то — грех. Ранен перед этим Ванюша был. Другой налетом-то руководил.
— Може, кто и другой, я запамятовал, начальник.
— От статьи бережешься, Пал Матвеич, а уберечься-то нельзя. Вот читай.
За стенкой замолчали, слышно было, как сопел Тюха, шелестя листами. Просунула в дверь голову секретарша.
— Филин, к начальнику!
Филин затянул галстук на распахнутом вороте, отряхнул брюки и вышел за дверь.
— Так как, Пал Матвеич? — опять спросил голос Клыча. — Будем и дальше вола за хвост вертеть?
— Да пиши, начальник, пиши! Сопляков похватали, они варежки и раззявили! Суки!
— Так и пишем: принимал участие в нападении на лавку потребкооперации в селе Жорновка. Ладно, теперь сам добавь, что еще не записано.
— Я себе не враг, начальник.
— Тебе, Пал Матвеич, стесняться нечего, и того» что есть, хватит.
— Мне что вышка, что пышка, начальник! Кто за наше дело берется, тому жизни мало остается.
— Дурное ваше дело, Пал Матвеич.
— Оно и ваше не больно хорошее. Легавое ваше дело, начальник.
— Зато не душегубы.
— Замолчь! — вдруг фистулой вскрикнул Тюха. — Чего душегубством мне тычешь? Ты людей же губил?
— Задаром? Опупел, бандюга?
— А на войне?
— То не людей, а врагов, — сказал серьезный голос начальника. — Это другое дело.
— А окромя врагов, так ни одну невинную душу и не кокнул?
За перегородкой засопели. Потом Клыч сказал:
— Ладно, скажу. — Он на секунду смолк и медленно заговорил снова: — В восемнадцатом сполнял я решение трибунала. Приговор. Офицерика в расход пускал. Молоденький офицерик. Стоит, слезы катятся, а смотрит гордо. Пожалел я его, вражину: «Давай хоть глаза завяжу». А он: «Стреляй, — говорит, — твое дело собачье». Оскорбил он меня. Не собачье мое дело было, человечье. Был он мне классовый враг. Уж сгнил он небось, дьявол глазастый, — сорвался вдруг голос начальника, — я ночи из-за него не сплю. Снится мне. Слезы его снятся. Думаю: оголец ведь. Не будь войны, перековался бы, понял… А на войне какая же жалость…
Опять наступило молчание. Слышалось тяжелое дыхание Клыча. Потом он сказал подчеркнуто ровно:
Читать дальше