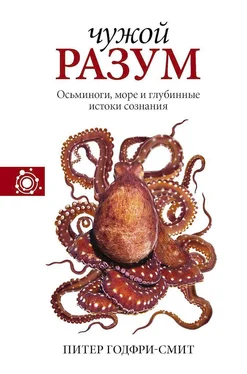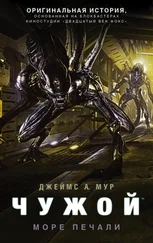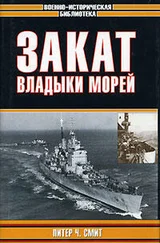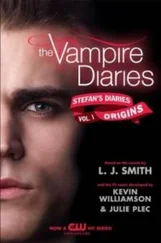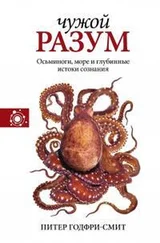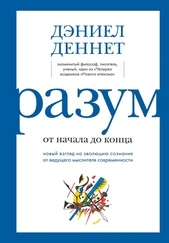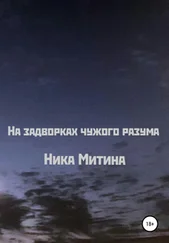Так я понимаю смену окраски у гигантских каракатиц: зачастую это непроизвольное выражение процессов, протекающих во внутреннем мире животного. Их закономерности обусловлены вспышками и приливами активности, а также более мелкими изменениями. Если вблизи рассматривать «морду» каракатицы — область между глазами и основанием первой пары щупалец, — нередко можно увидеть продолжительное мерцание очень тонких полутонов. Возможно, это механизм смены окраски, работающий вхолостую. Однажды я на протяжении нескольких дней наблюдал за каракатицей, которую прозвал Бранкузи. Этот экземпляр редко принимал яркую окраску. Зато он порой складывал щупальца в необычную фигуру и затем застывал в таком виде совершенно неподвижно, как скульптура, не шевелясь, сколько бы я за ним ни наблюдал. Он поднимал внутреннюю пару щупалец, как рожки, но кончики их выгибал вниз, в направлении дна. Бранкузи предпочитал форму цвету, но если приглядеться ближе, можно было заметить непрерывную сумятицу красок на его морде. У других животных я часто замечал постоянную смену оттенков в области под глазами — словно анимированный макияж.
Согласен, что каракатицы умеют тщательно контролировать цвет своей кожи, когда им это требуется. Они могут принять покровительственную или агрессивную окраску в одно мгновение. Любые изменения окраски, бесполезные для сигналов или маскировки, с эволюционной точки зрения — побочные эффекты. Если бы они были вредными, отбор устранил бы их. Но, вероятно, они не особенно вредят. Точнее, они могли бы вредить — привлекая нежелательное внимание — мелким головоногим, но не вредят гигантским каракатицам, которые достаточно крупны, так что большинство хищников на них не посягает.
Еще одна возможность связана со спекулятивными догадками о цветовых ощущениях, которые я излагал выше [140] Эта гипотеза была выдвинута Джейн Шелдон ( Jane Sheldon ).
. Предположим, изменение окраски головоногого влияет на световые волны, попадающие на его кожные сенсоры. Тогда эти перманентные малозаметные изменения окраски могут отчасти быть инструментом восприятия цветовой среды.
Кроме того, я понимаю, что немалая доля озадачивших меня изменений окраски, возможно, была вызвана моим собственным присутствием. Наблюдая за подобными демонстрациями, я часто стараюсь держаться в стороне, на достаточном расстоянии. Я также устанавливал перед домиками осьминогов видеокамеры и уходил на несколько часов, чтобы узнать, что они делают, когда поблизости никого нет. Животные нередко демонстрируют загадочную череду сменяющихся красок даже тогда, когда, насколько мне известно, рядом нет других осьминогов. Возможно, в подобных случаях они адресуют свое послание камере. Не исключено. Но есть и другой вариант — больше доверять своим глазам. По моему мнению, дело в том, что у этих животных хитроумная система, предназначенная для маскировки и коммуникации, подключена к мозгу таким образом, что порождает всевозможные выверты в плане выражения — нечто вроде непрерывного цветового бормотания.
Сигналы отправляются и воспринимаются; их производят для того, чтобы их увидели и услышали. Чтобы поближе взглянуть на отношения отправителя и адресата в мире животных, давайте вынырнем из воды и обратимся к совсем другому примеру. Дороти Чини и Роберт Сейфарт, одни из самых авторитетных специалистов по поведению животных, на протяжении многих лет изучали диких павианов в Африке, в дельте реки Окаванго (Ботсвана) [141] Dorothy Cheney and Robert Seyfarth, Baboon Metaphysics: The Evolution of a Social Mind (Chicago: University of Chicago Press, 2007). См. мою статью «Primates, Cephalopods, and the Evolution of Communication», The Social Origins of Language (2017): 102–120 в сборнике, где также опубликованы новые данные исследований Чини и Сейфарта и более подробно представлена их точка зрения. Помимо криков, павианы располагают также набором коммуникативных жестов. В статье Дженнифер Мейтер «Cephalopod Skin Displays: From Concealment to Communication» также обсуждается необычное соотношение отправителя и адресата в демонстрациях головоногих.
.
Жизнь павиана нелегка. Ему постоянно угрожают крупные африканские хищники, и к тому же ему приходится иметь дело с напряженной, переменчивой социальной обстановкой. Павианы живут стаями. В той, за которой наблюдали Чини и Сейфарт, было около восьмидесяти особей со сложной иерархией верховенства. Самки павианов остаются в той стае, в которой они родились, и образуют иерархию семей (материнских линий), причем внутри каждой из линий устанавливаются свои отношения доминирования. Большинство самцов, становясь подростками, покидает родную группу и переходит в другую. Их жизнь короче и суровее, в ней больше насилия, отнимающих силы погонь и демонстраций. Они часто бывают гонимыми или гонителями. Даже когда состав группы стабилен, представители обоих полов сталкиваются с проверками иерархии на прочность и сменами расстановки сил, обзаводятся союзниками и друзьями и постоянно занимаются грумингом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу