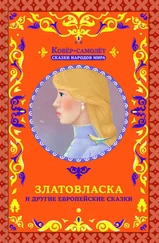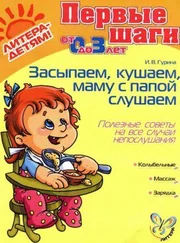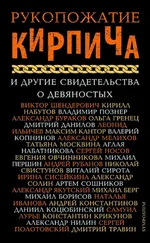А как в один из сезонов моя группа, меняясь посменно, просидела неделю, выполняя большую работу по наблюдению за скворцами, кормившимися опарышами на совхозной навозной яме? Девицы сначала морщились, а потом ничего, вполне воодушевились героизмом научного подвига; взвешивали и измеряли опарышей, изымая их из полужидкого навоза… И обсуждали потом в лаборатории, тревожно принюхиваясь к уже тщательно отмытым рукам, мол, будет что рассказать о славно проведенной летней практике… А я утешал их тем, что для поэта или для сказочного принца на белом коне, наверняка ничего не может быть лучше ядреной русской деуки, пахнущей летними травами и прочими деревенскими ароматами…
А ночные экскурсии по совам? Что может быть волнительнее для девичьего студенческого сердца, чем три часа в ночной лесной темноте, куда не пробивается ни свет вездесущих уличных фонарей, ни отдаленное сияние большого города, ни даже лунный свет, наглухо загороженный тяжелыми еловыми ветками? Когда темно так, что тропа аж светлеет в густой тьме.
И неожиданные шорохи вокруг. А требуется еще и выискивать, откуда исходят требовательно–пронзительные крики сидящих где‑то наверху голодных птенцов ушастой совы.
Периодически кто‑нибудь из девчонок не выдерживал проталкивался в группе вплотную ко мне, а в особенно страшные моменты непроизвольно цеплялся за мой локоть, забывая от впервые в жизни испытываемого ночного ужаса, формальные нормы поведения между студентками и преподавателями.
Чего греха таить, порой я пугал студенток специально, с будничными интонациями нагнетая ночной ужас рассказами о том, что ночью даже в самом обычном (в дневное время) месте порой удается наблюдать «агрессивное или хищническое поведение встречающихся (теоретически…) в этих краях крупных животных…»(Хе–хе–хе…)
Потом из‑за Павловки на факультете была «зеленая революция», когда ректорат решил раздать в пределах АБС наделы на дачные участки, а студенты и преподаватели–биологи решительно воспротивились этому. Сработало, Павловку отстояли тогда.
А вообще‑то чижик ― это птичка такая маленькая с приятным мелодичным голосом, а не только четырехгранная деревяшка с заостренными концами, по которой надо попасть лаптой. Этих птичек–чижиков в Павловке тоже очень много. Летают стайками по верхушкам берез».
―…Поднимай своих верблюдов, ― нам пора отправляться в обратный путь…
(Хорасанская сказка)
«20 марта. Дорогая Светлана Петровна!
Когда хожу по холмам («клик–клик» ― шагомер), хорошо думается про разное. В том числе и про московское. В том числе и про кафедральное. В том числе и про то, как на втором курсе у Вас на занятии доклад делал по хищным птицам. Не понимаю, как Вы тогда это вынесли. Я бы сейчас, как преподаватель, не стерпел бы такого: девяносто минут вместо пятнадцати… Но меня тогда и правда понесло, это я даже сейчас помню.
Часто скучаю по кафедре. Нет, не так. Не скучаю. Чего мне скучать, если я из родных стен в поле еле вырвался. Не скучаю, а ощущаю тылы; это совсем другое. Все‑таки эти самые пресловутые родные стены не заменишь ничем.
А коллектив в этих стенах? Доставшееся нам всем по жизни сочетание таких разных людей: Т. А. А. ― К. И. А. ― В. Г. Б. ― Л. И. Б. ― Т. И. Б. ― Д. И. Б. ― В. Т. Б. ― В. М. Г. ― М. С. Г. ― Ю. П. Г. ― В. С. Г. ― В. М. Д. ― С. А. Е. ― А. А. Е. ― И. А. Ж. ― В. Д. И. ― А. А. И. ― В. Е. К. ― Ю. С. К. ― Н. И. К. ― М. П. К. ― В. М. К. ― Н. Т. К. ― A. Б. К. ― Н. А. К. ― А. Л. К. ― А. И. К. ― И. Ф. К. ― С. Д. К. ― О. А. Л. ― Н. Ф. Л. ― Е. А. Л. ― К. В. М. ― B. Р. М. ― А. В. М. ― А. А. М. ― А. В. М. ― С. П. Н. ― И. Б. Н. ― В. И. О. ― В. И. П. ― С. Л. П. ― Ф. Н. П. ― М. Б. П. ― Е. Ю. П. ― А. Г. Р. ― Н. Н. Р. ― Е. Л. С. ― Л. С. С. ― Н. М. Ч. ― М. Е. Ч. ― С. А. Ф. ― Г. И. Ф. ― И. X. Ш. ― С. П. Ш. ― А. О. Ш. ― Н. А. Щ. Перечисление инициалов смотрится как генетический код в нашей общей «кафедральной ДНК»: цепочка букв, но сколько всего за ними! Как и в настоящем генетическом коде, не все здесь друг с другом сочетается, но все необходимо. Со временем что‑то на что‑то заменяется, что‑то исчезает. С факультета уже четверо за бугор отчалили. И не лучшие, и не худшие ― разные. Кто- то готовился, клинья подбивал, у кого‑то само сложилось. Это не важно. Важно, что их нет. Могли бы быть здесь, когда каждое подставленное плечо общую ношу облегчает, когда каждый рядовой с саперной лопаткой ― на вес золота.
Ведь образование у нас, какую эпоху ни возьми, всегда ― передний фронт. Где не столько стрелять приходится, сколько окапываться. Но их нет, уехали. Хотя это, может, и не самое главное, уехали и уехали, главное ― чтобы мосты не жгли.
Читать дальше