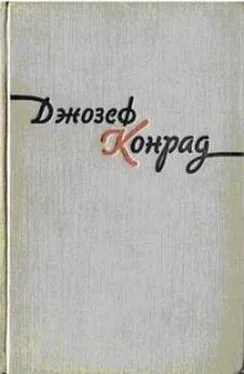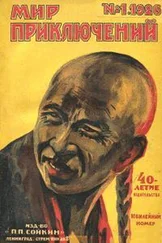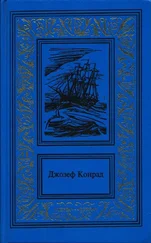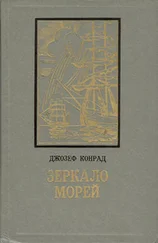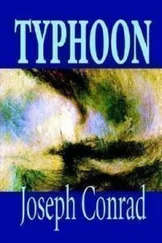Не возмущайтесь, если я скажу, что, по-моему, это была та же потребность, та же мука, та же пытка. Здесь нам дано созерцать основание всех эмоций, единственную радость — радость жизни; и единственную печаль, какая лежит в корне всех неисчислимых терзаний. Мне это стало ясно, по мере того как он говорил. Он никогда еще так не страдал. Это глодало его, это жгло, как огнем. И, указав на грудь, он с силой заломил руки. Уверяю вас, у меня не было никакого желания смеяться, когда я увидел это собственными глазами. Рассказывая мне об одном эпизоде в начале злополучного плавания, когда выбросили за борт испорченное мясо, он сказал, что потом, позднее, сердце у него надрывалось (он употребил именно это выражение), и он готов был рвать на себе волосы при мысли об этой выброшенной гнилой говядине.
Все это я слушал; я был свидетелем его физической борьбы, видел его пытку, слышал голос подлинного страдания.
Я был терпеливым свидетелем, ибо с той минуты, как я вошел в каюту, он воззвал ко мне о помощи, а помощь я дипломатически обещал ему раньше.
В маленькой каюте его волнение производило страшное впечатление; казалось, огромный кит барахтается в мелкой бухте у берега. Он вскакивал, бросался ничком на диван; пытался разорвать подушку зубами; потом с силой прижимал ее к лицу и снова падал на диван. Все судно как-будто отзывалось на его бурное отчаяние. А я дивился, глядя на его высокий лоб, поредевшие волосы на висках, тронутых благородной рукой времени, неподвижное голодное лицо, странно аскетическое и столь неспособное отражать эмоции.
Что ему делать? Он жил этой близостью к ней. Он сидел подле нее по вечерам… всю жизнь! Она шила. Ее голова была опущена — вот так. Ее голова… ее руки… Я это видел?
Он опустился на стул, наклонил свою могучую красную шею и стал делать стежки в воздухе; вид у него был смешной, невероятно глупый, сосредоточенный.
А теперь может ли он ее получить? Нет! Это было уж слишком! И после того, как он думал… Что такое он сделал? Что я ему посоветую? Взять ее силой? Нет? Он не должен? А кто там может его убить?
И тут я впервые увидел, что лицо его дрогнуло; верхняя губа воинственно приподнялась, обнажив зубы…
— Уж не Герман ли?
Он задумался глубоко, словно выпал из мира.
Следует отметить, что мысль о самоубийстве, видимо, ни на секунду не приходила ему в голову. Я догадался спросить его:
— Где же произошло это кораблекрушение?
Он вздрогнул и ответил неопределенно:
— Там, далеко, на юге…
— А теперь вы не на юге, — сказал я. — К насилию прибегать не годится. В любую минуту они могут увезти ее от вас… А как называлось судно?
— «Бургомистр Даль», — сказал он. — Это было не кораблекрушение.
Казалось, он постепенно пробуждался от этого транса, и пробуждался успокоенным.
— Не кораблекрушение? А что же это было?
— Поломка машины, — ответил он, с каждой секундой успокаиваясь.
Тут только я узнал, что это был пароход. Раньше я предполагал, что они умирали с голода в шлюпках, или на плоту, или, быть может, на бесплодной скале.
— Значит, судно не затонуло? — с удивлением спросил я.
Он кивнул головой.
— Мы видели южные льды, — произнес он мечтательно.
— И вы один выжили?
Он сел.
— Да. Для меня это было ужасное несчастье. Все шло скверно. Всем пришлось скверно. Я выжил.
Я слишком хорошо помню все, что приходилось читать о таких катастрофах, а потому мне трудно было раскрыть истинный смысл его ответов. Следовало бы понять сразу, но я не понял: трудно нам, помнящим слишком многое, о многом осведомленным и многому обученным, соприкоснуться с подлинной действительностью. Голова моя была забита предвзятыми представлениями о том, как следует относиться к случаям «каннибализма и к трагедиям на море», а потому я сказал:
— Значит, вам посчастливилось, когда вы тянули жребий?
— Тянули жребий? — переспросил он. — Какой жребий? Неужели вы думаете, что я по жребию отдал бы жизнь?
Я понял: он этого бы не сделал — пусть пропадает чужая жизнь.
— Это было великое несчастье. Ужасно, ужасно! — сказал он. — Много людей свихнулось, но лучшие должны были бы выжить.
— Вы хотите сказать — самые выносливые? — поправил я.
Он задумался над этим словом. Быть может, оно было ему незнакомо, хотя английский он знал прекрасно.
— Да, — согласился он наконец. — Лучшие. Под конец каждый стоял сам за себя, а судно принадлежало всем.
Так, задавая вопросы, я вытянул из него всю историю. Думаю, только этим я и мог поддержать его в ту ночь. Внешне по крайней мере он снова стал самим собой, и прежде всего вернулась его нелепая привычка проводить обеими руками по лицу и слегка вздрагивать всем телом; но теперь мне понятен был смысл этого жеста — импульсивного движения рук, открывающих голодное неподвижное лицо, расширенные зрачки напряженных, остановившихся глаз.
Читать дальше