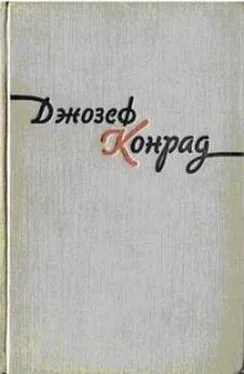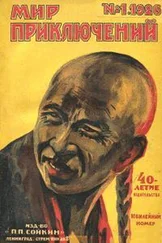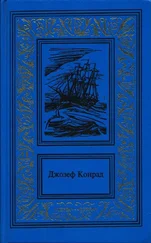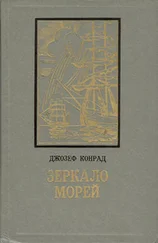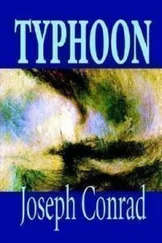— Скотина!
Начина с этой минуты и вплоть до того, как Фальк вышел из кают-компании, девушка, опустив работу и сложив на коленях руки, не сводила с него глаз. Он же, в слепоте своего сердца, дико озирался по сторонам, стараясь лишь не видеть беснующегося Германа. А зрелище было забавное и едва ли не страшное, благодаря неподвижности всех остальных присутствующих. В его бешенстве было что-то презрительное и устрашающее, ибо Германом овладел ужас перед такой исповедью, неожиданно на него свалившейся. Он мерил каюту большими шагами, он задыхался. Он хотел знать, как осмелился Фальк виться сюда и рассказывать ему об этом? Неужели он считал себя вправе сидеть в этой каюте, где живут его, Германа, жена и дети! Рассказать племяннице! Дочери родного брата! Позор! Слыхал ли я когда-нибудь о таком бесстыдстве? — обратился он ко мне. — Этому человеку следовало уйти и спрятаться от людей, а не…
— Но это великое несчастье! Для меня это великое несчастье! — восклицал время от времени Фальк.
Однако Герман продолжал метаться, частенько натыкаясь на стол. Наконец он потерял одну туфлю и, скрестив на груди руки, почти вплотную подступил к Фальку, чтобы задать ему вопрос: неужели он думает, что на найдется женщина, даже самая несчастная, которая согласилась бы сойтись с подобным чудовищем?
— Вы это думали? Думали? Думали?..
Я попытался его удержать. Он вырвался из моих рук. Он нашел свою туфлю и, стараясь ее надеть, бушевал, стоя на одной ноге. А Фальк с неподвижным лицом отвел глаза в сторону и сгреб одной рукой всю свою огромную бороду.
— Значит, мне следовало самому умереть? — задумчиво спросил он.
Я положил ему руку на плечо.
— Уйдите, — повелительно шепнул я, не вполне понимая смысл такого совета и желая лишь положить конец отвратительным крикам Германа. — Уйдите.
раньше чем двинуться с места, он секунду испытующе глядел на Германа. Я также вышел из каюты, чтобы проводить его. Но он замешкался на шканцах.
— Вот мое несчастье, — сказал он твердым голосом.
— Глупо было выпаливать это так, сразу. Все-таки нам не каждый день приходится выслушивать подобные признания.
— Что он хотел этим сказать? — размышлял он вслух. — Кому-нибудь нужно было умереть, но почему же именно мне?
Некоторое время он стоял в темноте — неподвижный, почти невидимый. Затем вдруг прижал мои локти к бокам. Я чувствовал себя совершенно беспомощным в его руках, а он шептал мне на ухо, и голос его дрожал:
— Это хуже, чем голод! Капитан, вы понимаете, что это значит? Я или должен был убить тогда, или — быть убитым. Лучше бы мне проломили череп ломом десять лет назад. А теперь мне приходится жить. Без нее! Вы понимаете? Быть может, много лет. Но как? Что можно сделать? Если бы я позволил себе взглянуть на нее теперь разок, я бы унес ее перед носом этого человека, — на руках бы унес, вот так!
Я почувствовал, что меня оторвали от палубы, потом внезапно опустили; я отшатнулся, ошеломленный и разбитый. Что за человек!
Все было тихо, — он ушел. Из кают-компании доносился голос Германа, и я отправился туда.
Сначала нельзя было разобрать ни единого слова. Миссис Герман, привлеченная шумом, явилась раньше меня и слушала, а лицо ее выражало удивление и кроткое неодобрение. Но потом она начала проявлять все признаки глубокого и беспомощного волнения. Ее супруг осыпал ее гортанными словами, а она, вытянув одну руку, ухватилась за переборку, словно боясь упасть, а другой рукой придерживала расстегнутое на груди платье. У Германа рубашка вылезла из-под пояса; разглагольствуя перед двумя женщинами, он топал ногами, поворачиваясь то к одной слушательнице, то к другой, воздевая руки над своей взъерошенной головой, и, оставаясь в такой позе, произносил громкую обвинительную речь; иногда он скрещивал руки на груди, и тогда начинал шипеть с негодованием, поднимая плечи и вытягивая шею. Девушка плакала.
Она не изменила своей позы. Из глаз ее, серьезно глядевших на дверь каюты, прикрывшую отступление Фалька, капали крупные слезы на ее руки, на работу, лежавшую на коленях, — слезы теплые и ласковые, как весенний ливень. Она плакала без гримас, беззвучно, очень трогательно, очень спокойно; на лице ее застыло скорее выражение жалости, а не боли, — так плачут от сострадания, а не от горя. Герман же, стоя перед ней, разглагольствовал. Я несколько раз ловил слово Mensch — человек, а также fressen; это слово я разыскал потом в словаре — оно означает «пожирать». Герман, казалось, добивался от нее хоть какого-нибудь ответа, он раскачивался всем телом. Она продолжала молчать и сидела совершенно неподвижно; наконец его волнение заразило и ее: она сжала руки, полные губы ее раздвинулись, но она не произнесла ни звука. Он ругался пронзительным голосом, размахивая руками, словно ветряная мельница, и вдруг погрозил ей толстым кулаком. Она громко разрыдалась. Казалось, он был потрясен.
Читать дальше