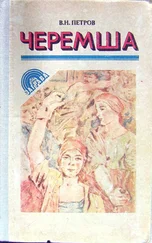— Что-нибудь потеряли, лейтенант? — окликнул его Кадомцев.
Колосков поднялся, щелкнул перочинным ножом, пряча его в карман.
— Да так… Собирательством занимаюсь. По примеру наших предков.
Туманный ответ ничего не объяснил Кадомцеву. Но, видя смущение лейтенанта, не стал уточнять.
Рядом на пеньке лежали фуражка и противогаз Колоскова. На поясном ремне — пустая пистолетная кобура, из которой почему-то торчали сухие прутики, былинки, рогульки какие-то.
— Что это у вас?
Лейтенант хлопнул ладонью по кобуре, пояснил:
— В наряд заступаю. Сейчас пообедаю и пойду получать оружие.
— Я не об этом, — сказал Кадомцев. — В кобуру вам мусору кто-то натолкал. Подшутили, наверно?
— Ах, это! — рассмеялся Колосков. — Это строительный материал. Тут на вырубке полно сушняка прошлогоднего. Из этих сучочков и шишек мы с дочкой сооружаем лесных человечков. Гномов.
Колосков достал из кобуры несколько палочек, выбрал одну из них — корявую, причудливой формы, стал объяснять, как можно превратить ее в фигуриста. Вот линии готового сюжета: плавно выброшенные руки, запрокинутая голова. Здесь чуть-чуть подстрогать, приделать коньки — и готов. Он и сейчас проглядывается, надо только смотреть вприщур и, главное, представить картину в деталях.
— Вы музыкой не занимались? — спросил Кадомцев.
— Нет, — суховатым тоном ответил Колосков. — Родители погибли в войну. Жил у тетки. Так что было не до музыки.
Пожалуй, опрометчиво задал свой вопрос Кадомцев. Человек увлеченно рассказывает о любимом деле, рассчитывая на какую-то взаимность, хотя бы понимание, а тут ему ни с того ни с сего вопрос совсем из другой оперы.
Впрочем, не видно было, чтобы Колоскова это особенно задело. Он деловито спрятал в кобуру сучки, застегнул воротничок и, посадив набекрень фуражку с крохотным «нахимовским» козырьком, шагнул к Кадомцеву.
— Разрешите обратиться в официальном порядке, товарищ капитан?
— Вы что, обиделись на меня? — удивился Кадомцев. — Почему в официальном?
— По служебному делу.
— Ну и что? Какая разница, по какому делу мы говорим — по личному или служебному? Язык-то один: человеческий. Ну, пожалуйста, говорите.
— Я опять насчет рядового Микитенко. Он получил освобождение по причине травмы. Однако я его все-таки привлек к полезной деятельности. Поставил на покраску матчасти.
— И что же?
— Проявляет недовольство.
— Ну, это естественно, — сказал Кадомцев. — Заставь вас с больной рукой работать, и вы были бы недовольны.
— Людей не хватает, товарищ капитан. Кроме того, у Микитенко вторая-то рука здоровая. Вполне может держать кисть.
— Ну работает, пусть работает. Хотя можно было бы его и не ставить.
За окном хлюпал ночной дождь. Слезящиеся стекла казались вымазанными черной краской. Канцелярский стол отражался в них размыто и уродливо, а фигура Кадомцева, склонившегося над столом, казалась вытянутой и сплющенной, будто в кривом зеркале.
Сквозь раскрытую форточку, затянутую серебристыми струями, вливался мерный успокаивающий шум — дождь был долгий, обложной, на всю ночь. А Микитенко все-таки пошел в Поливановку. Надел плащ-палатку и отправился еще до ужина, прямо в самую грозу. Вернется ли он вовремя, к отбою? Должен вернуться.
За дверью канцелярии, у тумбочки, топтался дневальный. Шаркал ногами, будто натирал пол. Твист разучивает, что ли? Несколько раз Кадомцев собирался выйти и сделать ему замечание, но все откладывал: дневальный, как нарочно, вовремя затихал. Да и самому не хотелось отвлекаться от работы — план рождался что-то уж слишком трудно и мучительно.
Думал, дело пойдет гладко, даже рассчитывал управиться за час. Однако все оказалось сложнее.
В коридоре застучали шаги, бодрой скороговоркой дневальный стал кому-то докладывать. Кто же пришел?
Распахнулась дверь, и на пороге появился майор Утяшин. Сбрасывая с плеч мокрую накидку, удивленно взглянул на Кадомцева.
— Ты здесь, оказывается, Михаил Иванович?
— Ты разве искал меня?
— Да как сказать… Пожалуй, нет.
— Сильный дождь? — спросил Кадомцев.
— По нашим местам — не очень. Полезный дождичек. Для огородов, для грибков.
Утяшин прошел к своему столу, причесался, носовым платком промокнул на усах дождевые капли. Потом достал какую-то пухлую папку, озабоченно стал перелистывать страницы.
Медлительность, осторожная деликатность, озабоченность… Все это так было не похоже на Утяшина.
Читать дальше