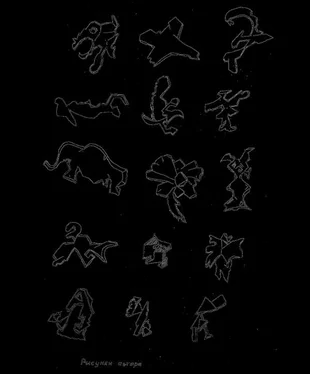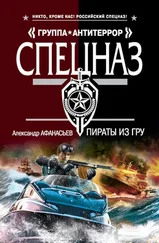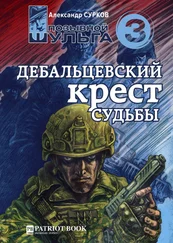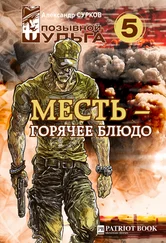Ещё два дня прожил он в этом месте, ночуя у костра, и всё для себя решил окончательно. На дальний прииск не поедет. В полутора суток пути есть стойбище якутов. Он туда доберётся и попробует сменять или продать или дать в долг под будущую пушнину или мамонтов зуб имеющуюся муку, и через месяц-полтора, как выйдет, вернётся в посёлок. А там как Бог даст.
Всё получилось лучше, чем он задумал. В стойбище, куда он прибыл, за муку он выгодно сменял беличьи, соболиные и норковые шкурки. Местные из лиственницы срубили ему балаган, печку он сделал сам. Построил, вернее, местные построили ему крепкий лабаз для товара. Короче, он открыл факторию, нанял сторожа и сметливого парня — привозчиком, а по снегу вернулся назад с полной удачей предприятия.
Нельзя сказать, что совесть его не беспокоила. Однако шло время и всё было тихо. Слухи ходили лишь о том, как он обустроил факторию, на которую он раз в три месяца наезжал с товаром и проверял своих работников.
Золотишко он постепенно вывез. Покупал песок по хорошей цене солидный скупщик, и не в посёлке, а в Екатеринбурге, куда он раз в год ездил и где у него был куплен дом.
Он страшно не любил вспоминать эту историю, так как считал себя честным купцом, которого ко времени, описанном в начале нашего повествования, уважали и ценили за твёрдое слово и педантичную обязательность в делах.
Карту, полученную в те жуткие дни, он понять не мог, хотя догадывался, что на ней есть те места, откуда угробленные им бедолаги-старатели намыли золотишко. Он надеялся на сына. Нутром он понимал, что без знания горного дела и геогнозии, как тогда называли геологию, стать крепким законным владельцем приисков невозможно. Именно поэтому он послал его учиться за границу и теперь думал о том, как он введёт его в свои дела, передаст карту, а тут ещё этот хитрован Тимоха. Да ладно, может, всё это один к одному, и у Тимохи есть заветные места с богатым золотом. Он позвал полового, рассчитался, дал на чай труднику и кликнул Семёна — извозчика со своей коляской, ждавшей его у корчмы.
Суров ехал домой и никак не мог сосредоточиться на какой-то одной мысли и отключился от их роя, когда коляска остановилась и дворник открыл ворота и, пропустив упряжку, закрыл снова. На небольшом внутреннем дворе в конце хозяйственных построек стоял маленький рубленый домик. В нём проживал немощный старик, вот уже добрый десяток лет не выходивший за пределы двора на улицу. Специально приставленный к нему слуга полностью его обихаживал, принося еду с хозяйской кухни. Старик приволакивал левую ногу, сквозь копну седых волос и аккуратно постриженную бороду глядели жёлтые умные глаза, чем-то напоминавшие глаза рыси. По его облику чувствовалась властность и бывшая, ныне ушедшая сила.
В посёлке о старике знали, что это родственник Сурова — разорившийся на карточной игре в столице брат его покойной матери, которого купец поселил у себя, милосердствуя Христа ради.
Наличие подобных приживал ни у кого не вызывало удивления — дело обычное. Домочадцы знали, что старик нелюдим, молчалив, беззлобен и богобоязнен. Большую часть времени он проводил у иконы с дорогим окладом из золота и крупных драгоценных камней. В его небольшую светёлку запросто входил только сам хозяин.
Слуга же, оставляя в прихожей еду и то, что требовалось деду, права входить в светёлку не имел. Только однажды Шак (так звали слугу) в трактире, по глухому загулу (гулял с местным околоточным), под большим секретом проговорился о том, что видел, как хозяин молился вместе со старшим. Шак знал также, что временами, за разговором, особенно после бани, Демьяныч со стариком крепко пили, но никогда не ругались. Всегда разговаривали вполголоса.
Несмотря на поздний час, Суров направился во флигелёк к старцу. Судя по свету в оконце, тот ещё не ложился.
По жизни вышло так, что столкнула их какая-то не то напасть, не то длиннющее невезение по очень узкой дорожке при обстоятельствах, о которых говорят: «Пан или пропал», не то что-то мистическое — «совпало». Случилось так, что Константин Демьяныч сам уже вошёл в силу и имел не менее 60 подручных, состоявших на его жаловании, управлял хлопотным хозяйством.
Однако временами, когда уставал от дел, отправлялся на таёжную заимку и неделю рыбачил, охотился и спал всласть, забыв о хлопотных и долгосрочных делах. Однажды, подранив оленя, он пошёл по следу и забрался в такие дебри, каких ранее и не видывал. Замшелые стволы векового листвяка, с веток которого спадали занавески из полупрозрачных зелёных лишайников, огромные зелёные сверху валуны размером с полтинник, мрачная тишина которых давила как в царстве Кощея, шум ветра где-то в верхушках гигантских деревьев — всё это делало окружающее нереальным. След оленя исчез. «Кривой нога ходил» — вспомнил он присказку местного якута, когда тот терял тропу в буреломе. Фляжка с шустовиком висела на боку, спички были и через малое время перед квадратным камнем весело засветился костерок. Ночь прошла без приключений, если не считать мерзкого уханья филина под утро. В случае, когда человек заблудился в тайге, надо искать ручей и двигаться по нему до речки, в которую он впадает. Это охотник знал. Так и сделал. Однако ручей вывел его не к речке, а к болоту, на берегу которого явственно чувствовалось недавнее пребывание людей. Угли от костра на берегу были тёплые. Две ошкуренные лесины и два вбитых кола, соединённых вверху горизонтальной слегой, обозначали место стоявшей здесь палатки. Примятый мох, свежие щепки, куски верёвки, обглоданные кости, разбитые с одной стороны чем-то тяжёлым и, наконец, четыре пустые, тёмного стекла бутылки со знакомыми ему бумажными наклейками — спирт — не оставляли сомнений о том, что только что здесь были люди.
Читать дальше